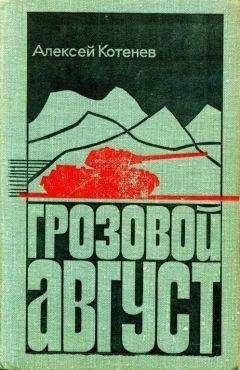Вера Кетлинская - Иначе жить не стоит
Алымов снова посмотрел на нее, на этот раз именно на нее, как таковую, — хорошенькую, слишком нарядную женщину.
— А я поеду с вами. Неужто не найдем одного билета?
— На Софроницкого? Я в день приезда еле-еле купила. — Она многозначительно поглядела на отца. — Прямо не знаю, как быть.
Катенин равнодушно отвернулся.
— Почему ты не предложил ему свой билет? — сердитым шепотом спросила Люда, когда они расстались с Алымовым у консерватории, так и не достав третьего билета.
— Да ты что, Люда? С какой стати?
— Феде отдал, а тут пожалел? Он так относится к тебе… И от него ведь все зависит, папа!
— Так ты обо мне хлопочешь?
Они вошли в зал, недовольные друг другом. Но уже через минуту праздничная атмосфера зала подчинила обоих. Катенин с облегчением заметил, что Люду рассматривают не потому, что она чересчур нарядна, а потому, что хороша. Люда тоже заметила это.
— Гляди орлом, папка! Все думают, что ты мой супруг!
Двери закрылись. Над сценой дали полный свет.
Стихли голоса. Где-то слева возникли рукоплескания, их подхватили во всем зале, и Катенин увидел высокого тонкого молодого человека, который вышел из-за тяжелой занавеси и скованными шагами, потупясь, заспешил через сцену к открытому роялю.
Пианист сел, подвигался, устраиваясь удобно, потер пальцы и опустил руки на колени. Исподлобья покосился на ряды слушателей, откуда доносились сдерживаемые покашливания и шепотки. Катенин тоже покосился с возмущением на тех, кто нарушал тишину, но в это время раздался ясный, сильный звук — руки пианиста коснулись клавиш.
«Какой чудесный инструмент рояль», — подумал Катенин, как будто он впервые слышал звуки рояля.
Софроницкий играл сонату, хорошо известную Катенину, — Люда выступала с нею в дивизионном клубе. Но разве это та самая соната? Катенин и не догадывался, что она содержит в себе такое богатство звуков, такую прозрачную чистоту и такую глубокую, страстную силу. Катенин узнавал каждую фразу, каждый звук — и в то же время слушал словно впервые. Знакомое сочетание звуков открывалось по-новому.
Он оглянулся на дочь. Ее пальцы слегка двигались; Катенин понял, что Люда мысленно играет. «Как хорошо, что она тут! — подумал он. — Ей это так важно! Может быть, наша поездка решит не только мою, но и ее судьбу».
Мысли о дочери не мешали ему слушать — нет, он слушал за двоих и за двоих решал, что только так и стоит играть, только это и есть искусство. Техника у Софроницкого безукоризненна, но ее как бы вовсе не существует, настолько она освобождает его от трудностей исполнения, позволяя раскрыть самую душу произведения. Иногда он наклоняется над клавишами и даже шепчет что-то, будто выманивая звуки, но чаще устремляет взгляд куда-то вверх и вбок, на что-то невидимое публике, словно сверяясь, соответствует ли то, что выходит из-под его пальцев, тому прекрасному, что ему дано увидеть и понять. Пусть то, что он играет, было когда-то создано другим человеком — он поет по-своему, это — его создание, его мир. И он открывает свой мир всем, кто умеет слушать: вот он, богатый, чистый, тревожный, неповторимый мир звуков, войдите в него, приобщитесь к волшебству.
Катенин вошел в этот мир целиком. Он удивился бы, если б понял, что не только слушает, но и продолжает жить, то есть думает о своем. Но он продолжал жить чище, горячей и напряженней, чем обычно, потому что подлинное искусство никогда не уводит от жизни, а пробуждает в душе человеческой лучшее, что в ней заложено. Все мелочи существования, все повседневные помыслы и расчеты улетучились. Огромным стало то, что Катенин долгое время не донимал и открыл совсем недавно, — творчество. Может быть, оттого, что он знал: человек, написавший эту потрясающую музыку, был несчастлив и пробивался через горе утрат, через чудовищную для музыканта глухоту, через все бедствия одиночества и нищеты к великолепному счастью творчества, — может быть, именно поэтому Катенин не поверил сейчас надеждам, разгоревшимся во время встречи с Алымовым. Он увидел: впереди борьба, разочарования, поиски, удары, и если успех, то выстраданный, нелегкий, — но ощутил себя ко всему готовым, свободным от корысти и честолюбия. «Как хорошо, — думал он, — как удивительно хорошо, что это счастье пришло ко мне!»
Последний звук долго-долго трепетал в полной тишине. Обычные человеческие рукоплескания разрушили волшебство.
— Да хлопай же, папка, ну как тебе не стыдно!
Раскрасневшаяся, веселая (почему веселая?!), Люда изо всех сил хлопала в ладоши, устремив навстречу пианисту немигающий, ждущий взгляд.
— Людмила, перестань! — строго сказал Катенин и взял ее под руку. — Пойдем!
— Как он хорош, папа! — прошептала она возбужденно.
— Он больше не выйдет, пойдем.
— Какая у него техника, папа! Ты помнишь, как он сыграл это место?.. — Она напела фразу, проведя в воздухе, как по клавишам, быстрыми пальцами.
— Тебе захотелось играть? — с пробудившейся нежностью спросил он. — Играть вот так, как он?
— Ой, куда мне! Но знаешь, папка… — Она прижалась к плечу отца, таинственно улыбаясь. — Если сказать правду… больше всего мне хочется пойти к нему!
— К нему? Зачем?
— Ах, боже мой, это нетрудно объяснить. Я пианистка, приехала в Москву совершенствоваться, мне понравилась его трактовка… да мало ли что!
— Ты с ума сошла!
— Не ворчи, папунька, не становись скучным! Я не девочка. И потом у нас, музыкантов, все это проще. Я уверена, он будет только рад. Он такой милый!
— Ну, ладно. — Внутренне сжавшись, он покорно протискивался за нею к буфету. — Что ты будешь пить, лимонад?
Как только стал известен день и час заседания, Катенин начал готовиться к схваткам с возможными оппонентами. Разговор с Ароном мог бы успокоить его, но Арону, видимо, было не до чужих волнений. Он сам заехал в гостиницу, как всегда, бодрый и оживленный, но на этот раз бодрость была нервозной, оживление искусственным. Арон пошутил с Людой, сослался на сумасшедшую загрузку и через несколько минут уехал. Катенин вышел проводить его в коридор гостиницы.
— Арон, у тебя неприятности?
— Ты Блока помнишь? — вместо ответа спросил Арон. — «И вечный бой. Покой нам только снится». Вот это оно и есть.
— Что-нибудь серьезное?
Арон молчал, поглядывая на Катенина сквозь прищуренные ресницы.
— Я, конечно, беспартийный. И, может быть, не имею права…
— Ты за событиями в Испании следишь? Пятая колонна — слыхал, что это такое? Притаилась и гадит исподтишка. Ты спрашиваешь, серьезное ли. Само время очень серьезное. Фашизм прет напролом и ползет по-змеиному. Кто может поручиться, что и у нас не действуют агенты пятой колонны?
— Но…
— А вот это «но» приходится иногда доказывать. И бывает всего труднее доказать, что ты не верблюд.
— Я только не понимаю, как в отношении таких, как ты… Арон невесело усмехнулся.
— Я бы тоже хотел все понимать. — И, взбодрившись: — Ну, до скорого! Не дрейфь! Все покатится как по маслу.
В назначенный час никого еще не было, кроме главного инженера Колокольникова — представительного мужчины в каких-то необычных очках с очень толстой оправой. Колокольников сразу предупредил, что начинает работать с понедельника и только тогда сумеет ознакомиться с проектом, «что, впрочем, не беда, так как изучили его весьма авторитетные специалисты!»
Авторитетные специалисты съезжались медленно. Празднично сияющий Олесов встречал их у дверей и вел прямо к стендам.
— Прошу познакомиться с чертежами.
Когда консультанты, проходя вдоль стендов, переговаривались между собой о посторонних делах, Катенин холодел и терял надежду. Когда кто-нибудь из них задерживался и начинал рассматривать чертежи, Катенина бросало в жар. Все казались очень важными и не обращали никакого внимания на автора проекта. Арона еще не было. Главный энтузиаст Алымов куда-то исчез.
Но вот появился Арон — свежевыбритый, благоухающий одеколоном, улыбчивый. Если присмотреться, можно было заметить, что он осунулся и несколько взвинчен, но гораздо заметнее было то, что с его приходом чинная скука ожидания кончилась. Арон был со всеми знаком и как будто со всеми дружен, он умело втянул Катенина в общую беседу.
— Сейчас мы за вас ка-ак примемся, изобретатель! — шутливо посулил Арон, и все заулыбались.
Так они и расселись вокруг длинного стола — с улыбками на лицах. Только два человека не поддались воздействию Арона: маленький седеющий профессор Вадецкий, который заносчиво вскидывал голову на тонкой шее, подпертой тугим, накрахмаленным воротничком, да массивный, угрюмый работник наркомата Бурмин, которого Федя Голь почтительным шепотом определил: «Мамонт». Про Вадецкого тот же Федя шепнул: «Злыдня». К удивлению Катенина, Федя окрестил Глазетовым Гробом изысканно-вежливого профессора Граба, успевшего пленить Всеволода Сергеевича приветливыми улыбками и полным отсутствием важности, — а ведь Граб был крупнейшим ученым, перед ним заискивал и Вадецкий.