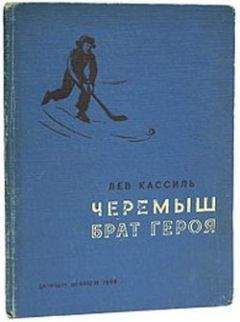Лев Кассиль - Том 2. Черемыш, брат героя. Великое противостояние
1939–1940
Книга вторая. Свет Москвы
Глава 1
Канун летнего солнцестояния
Не знаю, как там у них на Марсе, но на Земле у нас жизнь была в этот вечер чудо как хороша! Трубили горны, били барабаны в подмосковных лесах. Из походов возвращались в лагеря пионеры. И с голоса их училось новым песням переимчивое эхо.
По загородному шоссе на зеленой дамбе канала катили из Москвы резвые грузовички. Гремели на них детские цинковые ванны. Вразнобой подпрыгивали перекувырнутые стулья. Трехколесные велосипеды барахтались, безнадежно запутавшись в гамаках. Стоймя ехали полосатые матрацы. Все ерзало и громыхало, проносясь через переезды под покровительством полосатых же шлагбаумов…
Люди ехали на дачу. Был субботний вечер, а завтра по календарю начиналось лето.
Отправилась и я в поход со своими пионерами.
Мы плыли на лодке по светлой, покойной воде. Прошли вдалеке, возвращаясь в Москву из дневного рейса с Волги, белые теплоходы. На берегу за лесом играли в лагерях вечернюю зорю. Солнце село за дальние луга незамутненным, обещая на завтра хороший день. И радостно было знать, что утром, чуть снова взойдет оно, нам наконец откроются некоторые веселые тайны – те, что мы загадали для себя именно на этот день почти год назад.
Но у меня самой были к тому же особые основания считать сегодня жизнь прекрасной и ожидать, что завтра она будет еще лучше…
Утром я получила телеграмму от Амеда. Он дал ее с дороги, из Чкалова. Ясно и уже не раз представляла я себе, как он легко соскочил с подножки вагона, когда поезд еще не остановился, пробежал, всех обгоняя, по перрону, ловкий, смуглолицый, привставая на носки, вскидывая из-под длинных косых бровей блестящие глаза, ища вывеску «Телеграф». А потом, закусив тонкую губу, старательно выводил автоматической ручкой, которой так гордился: «Встречай воскресенье проведем вместе день противостояния самый большой день в году». «Эге, джигиты, видно, стали разбираться в звездах! – подумала я. – Мои астрономические увлечения захватили и Амеда». Хотя пока еще он явно путал противостояния планет и солнцестояние, которое наступало завтра.
Почти два года прошло с того дня, как мы встретились с ним на пароходе «Киров» в Каспийском море. Это было как раз в день великого противостояния Марса. И долго мы с Амедом смотрели в тот вечер с борта корабля на круглую ярко-красную, словно смородинка, звезду, низко плывшую над горячим малахитовым горизонтом Каспия. Я рассказала ему тогда о Расщепее, о дружбе с ним, о звездах и, когда наступила ночь, долго водила моего нового знакомого по звездным дорожкам Вселенной. Зато потом, в Туркмении, Амед стал моим верным проводником в прогулках по незнакомой и очень интересной земле. Мы очень подружились в то лето. И брат мой Георгий брал нас с собой в далекие поездки по пескам, где он разведывал будущие пути воды. Жарко было там и пронзительно сухо. Все вокруг жаждало воды, все молило о влаге – и сухая, потрескавшаяся земля, и пески, горячие, как зола, и испепеленные листья, – все шелестело: «Су!.. Су!..» А «су» по-туркменски – это вода. И Георгий рассказывал о том, как через черные пески Каракумов побежит свежая вода, когда построят канал, которым соединят Мургаб с Амударьей и Теджен с Мургабом. Мы ездили верхом. Амед научил меня правильно держаться на лошади. А лошади там были замечательные – статные, гордо ступающие. Нас сопровождали туркмены, старики в халатах и огромных шапках «тельпеках», похожих на косматый воз сена. Молодые джигиты носили толстовки, из верхних карманов которых торчали вечные ручки – это была в аулах, видимо, общая новая мода, – на юношах были галифе, но на ногах не сапоги, а легкие туфли вроде чувяк. Меня удивляло, что многие из юношей продолжают носить большие косматые шапки. Носил иногда такую и Амед; он объяснял мне, что в этой шапке не болит от солнца голова.
Старики уважали моего брата и говорили, что Москва велела ему привести воду в пустыню. Застенчивые и бесшумные туркменские женщины, повязав головы халатами своих мужей, издали следили за нами, когда мы бродили по берегам желто-водного Мургаба, любуясь высокими тростниками на плавнях… Амед познакомил меня со своими родными. Отца уже давно не было в живых. Его много лет назад убили богатые баи-кулаки, пытавшиеся восстать против Советской власти. Отец Амеда был, по рассказам, веселым и отважным человеком. И когда ему отказали в невесте, требуя за нее огромный выкуп – калым, непосильный для бедняка, он среди бела дня похитил свою любимую Огюльсолтан. Мать Амеда, Огюльсолтан, высокая, тонкобровая, как сын, хорошо знала Георгия, работала в совхозе и была членом горсовета. Сперва она мне показалась гордой и неприязненной, а потом мы с ней сошлись по-хорошему. Я ей показала новые свои собственные вышивки и научила ее вышивать крестиком. И пока я гостила у брата, почти каждый день заходила к ним. Однажды, когда мы сидели и пили зеленый чай из широких пиал, мать Амеда, вздохнув и отведя в сторону глаза, вдруг заговорила о том, что было время, когда они жили в кибитке, а теперь дом у них очень хороший и просторный, всего в нем достаточно, но нет в доме гелин. Амед недовольно свел брови. «Что такое гелин?» – спросила я у него, когда мать вышла. Он очень покраснел, а потом сказал: «А ну, не обращай, тебя прошу, на это внимание. Глупый разговор! Зачем тебе знать…» Но я почувствовала, что он хочет скрыть от меня что-то, и так пристала к Амеду, что в конце концов он сказал: «Ну, гелин – это по-нашему значит невестка… Ай, глупый разговор!» И он весь залился краской. Тут уж мне стало очень смешно. Уж не меня ли прочила на будущее мать Амеда в свои невестки? Я посмотрела на Амеда и стала хохотать. Амед сперва смотрел на меня очень строго и обиженно, а потом тоже стал смеяться. И, конечно, больше мы об этом никогда не говорили. Мы очень хорошо дружили с Амедом. А когда кончилось лето, надо было вернуться в Москву, в школу, мне было жалко расставаться с Амедом, хотя меня и тянуло уже домой. Но мы обещали писать друг другу и сохранить дружбу навсегда-навсегда.
Без малого два года прошло с тех пор. И мы не виделись. Я не смогла поехать на другое лето в Туркмению, потому что меня приняли в комсомол, я стала вожатой юных пионеров и жила в лагере под Москвой. Амед тоже не приезжал. Но мы с ним аккуратно переписывались. Сперва мы обменивались письмами редко, посылали их через определенные сроки и строго следили за очередью, а потом стали писать все чаще и чаще, не чванясь друг перед другом, писали, когда хочется, писали обо всем – о каждой новой прочитанной книжке, об интересной кинокартине. Я начинала огорчаться, если письмо от Амеда задерживалось почему-нибудь на несколько дней и не приходило тогда, когда я его ждала. Писал он подробно, очень вежливо. И было что-то не совсем привычное в чуточку неуклюжей изысканности его писем. Это мне тоже нравилось. Ромка Каштан не смог бы так писать… И подруги мои знали, что у меня есть где-то далеко друг джигит, который шлет мне письма. Очень хотелось иногда показать моим любопытным подругам какое-нибудь письмо Амеда. Но мне казалось, что этим бы я нарушила обет взаимного доверия. Я уже знала всех друзей Амеда, была в курсе всех его дел и даже волновалась, когда заболел любимый жеребенок Амеда, ахалтекинец Дюльдяль, – о нем Амед писал в каждом письме с такой восторженной нежностью, что меня почему-то порой это уже начинало чуточку злить… Тогда я ему нарочно описывала, как мы ходили в кино вдвоем с Ромкой Каштаном и как смешно Ромка сказал про одного киноартиста, что он чересчур много хлопочет физиономией, а про нашего историка в школе – что он даже бутерброды ест исторические: бородинский хлеб с полтавской колбасой.
Но на Амеда это не действовало, и в следующем письме он писал: «Пожалуйста, передай привет моего сердца твоим добрым друзьям и мудрому, красноречивому товарищу Р. Каштану. Мой Дюльдяль стал такой крепкий, что сегодня совсем оборвал привязь. Он стал очень красивый. Я считаю, что лучше такого коня у нас в Туркмении нет. Я хотел бы, чтобы ты видела его, какой он красивый…»
В ответ на это я писала Амеду о разных своих звездных делах, о занятиях в астрономическом кружке Дома пионеров, ставила на верху письма, в уголке, знаки Зодиака, смотря по тому, какой был месяц на дворе. Вообще мне хотелось показать ему, что он имеет дело с девушкой культурной и недюжинной, чтобы он там не очень зазнавался со своими лошадьми. Но Амед тоже, видно, был не промах. За эти два года он, судя по письмам, очень развился. В письмах его теперь было все меньше и меньше ошибок. Все более пылко и восторженно описывал Амед своего Дюльдяля. Тут он становился совсем поэтом. И однажды я была изрядно озадачена, когда, получив очередное письмо и от нетерпения, по своей плохой привычке, заглянув сразу на вторую страницу, прочла в конце ее: «Я покрываю поцелуями твою голову…» От негодования я даже растерялась. Кто ему позволил так писать! Но, прочтя первую строку следующей странички, я все поняла. «О мой дорогой Дюльдяль, – было написано там, – если бы нашелся человек, который захотел купить тебя ценой своей души, то и эта цена для тебя была бы низкой…» Так все это относилось к Дюльдялю! Ну, это другое дело. Но, не скрою, я почувствовала тотчас же некоторую досаду и разочарование. А Амед писал: «Я не жалею о деньгах, которые истратил на тебя, ни о зеленом клевере, ни о том беспокойстве, которое ты мне доставил, когда я думал, что ты пропал… Дюльдяль! Я вырастил его из жеребенка. Я даю ему каждый вечер сорок мер зерна. Он пьет из тщательно выструганной чашки свежую ключевую воду. Он ржет, взбираясь на скалы. Он стремится к битве, как стрела. Я украсил его убор двумя бубенчиками, чтобы ему не было скучно в его конюшне. Бархатной попоны на спину мало для такого коня! Серебряных подков с золотыми гвоздями слишком мало для него. О мой Дюльдяль! Живи долго и наслаждайся жизнью!..»