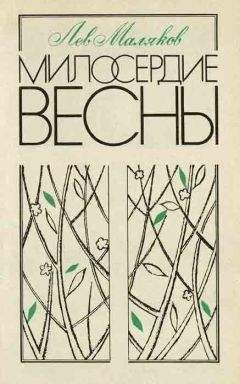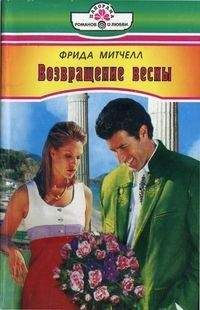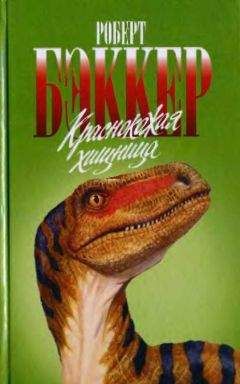Анатолий Чмыхало - Три весны
— Так кто же он?
— Вам я откроюсь, Федор Ипатьевич. Васька Панков. Я сам был свидетелем.
Федя пристально посмотрел на Петера. Потом на минуту задумался и спросил:
— Ему ты веришь?
Петер утвердительно качнул головой.
— Я, тоже. А ведь опять угодит в штрафную. Где аккордеон?
— У нас в блиндаже. Васька для него специальную нишу вырыл, — сказал Петер.
— С Гущиным я переговорю. Надеюсь, не дойдет до трибунала.
На этом их разговор оборвался. В приоткрытую дверь землянки просунулась голова вестового:
— Товарищ капитан, вас требует к себе комбат. Он на правом фланге батальона.
— Иду, — проговорил Федя и подтолкнул к выходу Петера.
Петер заспешил к себе во вторую роту. Идти пришлось по мелкому ходу сообщения. Местами он полз на четвереньках, а то и на животе, по-пластунски, обдирая колени и локти.
А во взводном блиндаже Петера ошеломили неожиданным известием: аккордеон нашли, Ваську Панкова арестовали. Васька признался, что плавал на ту сторону.
— Как же это так? — растерянно сказал Петер.
— А где ты был ночью? — бросил Костя и, захватив свою винтовку, вышел из блиндажа.
14В один из дней с правого берега Миуса полетели болванки. Резкий, оборванный на середине звук выстрела, и в ту же секунду — глухой шлепок по земле, и колечко пыли на нашей стороне. Разрывов нет. На то она и болванка, чтобы не рваться, а всем своим монолитом разносить в щепы блиндажи, сокрушать стальную скорлупу танков.
— Ну и фриц! — покачал лысеющей головой Гладышев. — Это бьют зарытые в землю самоходки. А почему бьют болванками? То-то и оно!
— А все-таки — почему? — спросил Костя.
— Историю нужно учить, Воробьев. Знать ее назубок. Тогда все поймешь, — вытирая набежавшие на глаза слезы, сказал Федя.
— А все-таки? — настаивал Костя.
— Рассказать ему? — спросил Федя у сидевшего рядом, на земляном полу блиндажа, Семы Ротштейна.
— А то как же! — встрепенулся Сема.
Федя окинул собеседников коротким торжествующим взглядом. Мол, не догадываетесь, а надо шевелить мозгами.
— Вот Сема попросил — это совсем другое дело. Семе надо все пояснять, потому как он — отстающий.
— Что вы уж так, Федор Ипатьевич! По-моему, и «посредственно» были, и даже «хорошо», — возразил Сема, сделав обиженное лицо.
— Это по-твоему. Ну да ладно уж, расскажу. А случилось у них вот что. Командир немецкой дивизии плохо спал сегодняшнюю ночь. Все думал, какой мы готовим ему подвох. И додумался. У фрицев танки в окопах? В окопах. А почему, дескать, русским не сделать то же со своей техникой. Русские хуже, что ли?.. Вот что он подумал, немецкий генерал. И отдал приказ крыть болванками по каждому пригорку.
— Пусть так, но история тут при чем? — Костя сделал энергичный жест рукой.
— А при том, мой юный друг, что у нас и у них позади Сталинград. Живая история. Она заставила гитлеровских нахалов уважительно к ней относиться. Ну, а мы оказались и на этот раз похитрее фрицев. К чему нам в обороне сосредоточивать технику у переднего края? Совсем ни к чему. Вот какая штука.
И Федя залился своим тонким, хитроватым смешком. А ребятам, которые внимательно его слушали, все стало так же ясно, как бывало на его уроках. Он умел о самых сложных вещах говорить удивительно просто. Или наоборот: простое и всем понятное возводил к Тациту или Плинию-младшему. И тогда Косте казалось, что Федя жил вне времени, Что прошлое и настоящее настолько перемешалось в его мозгу, что отделить их друг от друга было невозможно.
За два года войны внешне он почти не изменился. Военная форма сидела на нем так аккуратно и привычно, словно и родился-то Федя в гимнастерке с портупеей и планшеткой.
«Я мало знал его прежде. Ближе к нему был Алеша», — с тоской подумал Костя.
Где он теперь, вихрастый, ершистый Алеша? Велик фронт, и Алеша может быть на любом его километре. Война без спроса разлучает людей, иногда — навеки.
У Кости на глазах погибло немало бойцов. Пожилых и совсем юных. А вот Алешу он представлял себе только живым, будто тот вообще умереть не может. Странно, но это было именно так.
И о себе думал так же. Хотя временами в голове волчком вертелся знакомый мотив:
В Руре успели пулю
И для меня отлить.
Впрочем, пуля — еще не смерть. Пуля — это рана, а раны — они далеко не всегда смертельны. Но если пуля попадет в сердце, смерть наступит сразу, почти мгновенно. Некогда будет вспоминать о прошлом, как делается это в кино и в некоторых книжках. За секунду перед человеком проходит вся жизнь? Ерунда. Однако жизнь жизни рознь. Взять хот я бы самого Костю. Ну кого ему вспоминать перед смертью? Владу и мать. Еще Алешу и Илью Туманова вспомнит, пожалуй, да Ларису Федоровну, да еще математика Ивана Сидоровича. А ведь, глядишь, и наберется порядком людей, с которыми накрепко связана Костина судьба. Да, чуть Костя не позабыл про Ваську Панкова. И его непременно вспомнит.
Кстати, нужно поговорить о нем с Федей. Если Федя помог в беде отцу Петера, то почему не поможет Ваське? Ведь кто-кто, а Федя должен знать Ваську, что никакой он не подлец и не предатель.
Но этот разговор Федор Ипатьевич завел сам. Однажды, когда загустели сумерки в окопах, он явился в блиндаж к ребятам, улыбающийся, чем-то очень довольный. Краем зажатой в руке пилотки он потер лысину, облегченно вздохнул и сказал:
— Ожидаются важные перемены. Может, скоро снова пойдем вперед.
— Понятно, что рано или поздно тронемся. Какой уж тут секрет, — скептически проговорил Сема.
— Я сказал — скоро. Улавливаешь разницу?
— Скоро — тоже понятие относительное, так ведь? — сказал Костя. — Растяжимое. Как резина.
— Выучили мы вас на свою голову! Ишь, какие грамотные стали! Слова до себя не допускаете, — заворчал Федя. Но это в шутку: в глазах у Феди — озорные искорки. — А беседовал я сейчас с членом Военного совета армии, с генералом.
— Да ну! — воскликнул пулеметчик Михеич, дремавший до этого в дальнем углу блиндажа.
— Дайте попить, — попросил Федя.
Сема нашарил в полутьме фляжку и подал ему. Федя отпил несколько глотков, крякнул и вытер губы все той же пилоткой.
— Ожидаются важные перемены, — повторил он, всматриваясь в бойцов.
Теперь уже ребята с интересом потянулись к нему. Ждали чего-то нового, более конкретного. Может, фронт тронется буквально завтра.
Но Федя только это и знал. И потому тут же заговорил о другом:
— Генерал лично ознакомился с делом Панкова. Я попросил его. От себя попросил и от всех вас.
— Спасибо, Федор Ипатьевич! — вырвалось у Кости.
— Сколько времени Панков был на том берегу? — вдруг сухо спросил Федя.
— Точно не могу сказать, — прикидывая, ответил Костя. — Часов у меня нет. Но, наверное, час или полтора…
— Много, — определил Федя. — Хотя как считать…
Ребята оставляли Федю ночевать, но он заторопился. Он вечно спешил.
Ночью немцы пускали осветительные ракеты да изредка постреливали. Было похоже, что дежурные скучали и подбадривали себя таким образом.
Костя выходил из блиндажа, видел крупные звезды на бархатном южном небе, «люстры» над селом и над Саур-могилой. И слышал, как неподалеку, за поворотом Миуса, нервно частил пулемет.
А может, это стучали звонкие копыта полудиких половецких коней? Галопом пронеслась погоня за князем Игорем, а он уже далеко-далеко, у самого Северного Донца. На краю земли Русской.
Костя любил, эту землю. Она была его родиной. Она взрастила его, сделала человеком. И в горестный для нее час он был готов на подвиг и на смерть.
Костя собирался нырнуть в блиндаж, но его окликнул тревожный голос:
— Кто это?
Костя обернулся и заметил Петера, неторопливо идущего по траншее. Тот тоже узнал Костю.
— Есть закурить? — хриплым голосом попросил Петер и, не дождавшись, когда Костя что-то ответит ему или даст махорки, добавил угрюмо: — Напрасно ты на меня…
— Ладно. Кури. — Костя подал ему кисет. Подал и отвернулся.
И Петер задымил самокруткой, и еще что-то хотел сказать Косте, но тот оборвал его на полуслове:
— Спать хочу, — и шагнул в блиндаж. В нос ему ударило кислым запахом пота.
Прежде, чем снова уснуть, Костя долго думал о Владе. Снова вспомнился тот вечер, когда проводили в Ташкент Илью и Алешу. Она упрекала Костю. Ему и так было больно отставать от друзей. Но что он мог сделать тогда? Да и сейчас Костя не так уж силен, когда нет-нет да и подумает о пуле из Рура, о маленьком кусочке металла.
Хоть ты и из Рура,
А все-таки дура.
Это уже что-то новое. Может быть, даже несколько героическое. А имя у Влады прекрасное. И очень жаль Косте, что он не сказал ей об этом. Вообще, он ей не досказал очень многого. Зачем-то копался в мелких обидах, упрекал ее. А нужно было открыться ей, что при одной мысли о Владе Косте всегда хотелось быть умнее и красивее лишь для того, чтобы нравиться ей. Смешно, но он вечерами расчесывал свои непослушные вихры и всю ночь старался спать на спине, чтобы не испортить прически. Он никогда бы не стал носить в адскую жару черного в белую крапинку галстука, если бы не Влада. И прав Алеша: под Пушкина Костя работал тоже из-за нее. Сколько он перерисовал этих крохотных женских головок!