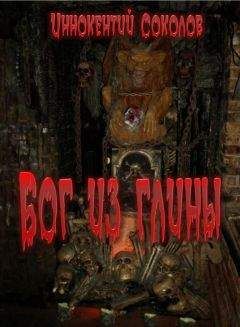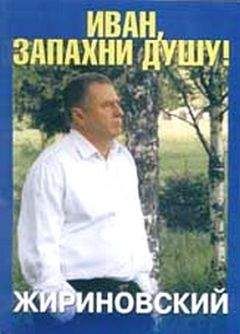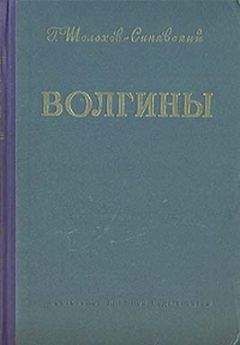Георгий Шолохов-Синявский - Суровая путина
— Это твой сын на каторге?
— Мой, — негромко, почти одними губами, вымолвила Федора, но среди тишины ее услышали все.
— Как же ты смеешь просить?! — багровея, закричал заседатель. — Ка-ак ты смеешь? Скажи, милая, спасибо, что я сейчас не заберу тебя да не посажу. Ступай домой да не показывайся мне на глаза. Живо!
Федора попятилась в толпу.
В это время из самой гущи ее, оттуда, где стояли Панфил Шкоркин и Илья Спиридонов протиснулся высокий казак в помятой шинели, с георгиевским крестом на полосатой замусоленной ленточке.
Он остановился у самого крылечного карниза, быстрым жестом поправил на забинтованной грязным госпитальным бинтом голове фуражку.
Взгляд казака был быстр и гневен, на плоских, обтянутых смуглой кожей скулах проступал желчный, с коричневым отливом, румянец.
Сиплый, протравленный фронтовой стужей голос ударил по минутному безмолвию:
— Куда ты ее гонишь, гад? Через почему она не должна просить? Кто загнал в Сибирь ее сына, как не такие гады, как ты? А теперь последнее у нее отобрали — и ей помалкивать? По какому праву? Кажи, тыловой кнурь!
Казак рванулся к Кумскову, схватил его за ногу, пытаясь стащить с крыльца.
Заседатель дергал за крышку кобуры. Дрожащие пальцы не слушались, никак не могли отстегнуть ее.
Казак, подавшись вперед, распахнул шинель. Между засаленных отворотов расстегнутой гимнастерки темнела волосатая, словно обугленная, грудь. Ударяя в грудь кулаком, казак захрипел:
— Стреляй, гад! Расстреливай неповинный народ! Арестовывай, ну? Кровопивец!
— Тикайте, он стрелять будет! — взвизгнула Лушка и нырнула под крыльцо.
Прижимаясь к стене, Кумсков поднял револьвер, выстрелил вверх несколько раз.
Толпа на мгновенье отхлынула, потом надвинулась на крыльцо с новой силой. Затрещал хрупкий частокол. Кто-то швырнул в заседателя камнем, зазвенели в окне выбитые стекла.
Бабы швыряли на крыльцо заледенелые комья снега, сваленные в углу двора кирпичи.
Расстреляв все патроны, Кумсков вскочил в дом. Полбу катился холодный пот, ноги противно дрожали.
Шум во дворе возрастал. Глухие удары посыпались в двери магазина.
Старый Леденцов снял со стены заржавленное шомпольное ружье, встал у двери.
— В случае чего — палить буду.
Кумсков метался по комнате, хватаясь за голову.
— Безобразие! Бесчиние! До чего довели! Этот начальник рыболовной охраны в печенках у меня сидит.
А во дворе совершалось что-то, еще не виданное в хуторе. Затертые толпой полицейские — их было только трое — беспомощно махали шашками.
— Не расходи-ись! — вопил казак-фронтовик, сдерживая отступающих женщин. — Я им покажу фронтовое право!
— Заседателя! Тащи его сюда, гадюку!
— К а-та-ма-ну!
Толпа хлынула со двора, валом двинулась к хуторскому правлению.
Грозно и торопливо забил в церкви набат.
5Возле дома Леденцовых было тихо. На снегу остались глубокие взрыхленные следы ног да кое-где ало пятнился кровью грязноватый снежок. Двери и ставни магазина были наглухо закрыты. У крыльца с обломанными перилами понуро расхаживали полицейские. У одного из них голова была обвязана бинтом.
У хуторского правления морским прибоем гудел казачий сбор. Напирая на атамана, кричали старики, смело подавала голос молодежь. Дрожала в руках атамана насека, рвался от натуги его сиповатый бас. Но не находил атаман виноватых в бабьем бунте: всплывали старые путаные рыбацкие дела, неразрешенные споры. Снова кричали иногородние об отобранных снастях, о несправедливости прасолов и охраны, об искалеченных товарищах. Наступали друг на друга с кулаками. До самых сумерок длился сбор.
А в сумерках прискакал на взмыленных конях высланный из станицы наряд вооруженных винтовками полицейских.
В ту ночь никто не заснул в хуторе. Не спали бабы, растерявшие на леденцовском дворе платки. Не спал прасол Осип Васильевич. Ворочаясь в постели, прислушивался, как особенно тревожно и часто гремит на промыслах сторожевая колотушка.
Не спал и главный виновник бунта, Панфил Шкоркин, всю ночь ждал — придут полицейские и снова погонят в тюрьму.
Казак-фронтовик Павел Чекусов, первый поднявший рыбацких жен на бунт, несколько долгих, томительных часов просидел в сарае, зарывшись в сено, а к полуночи тихонько пробрался в хату, простился с семьей. Прихватив свой фронтовой мешок, — в него положила плачущая жена зачерствелые лепешки, — выбрался левадами за хутор.
Ночь была темной, только смутно серел под ногами снег. Тревожно лаяли по дворам собаки. Займищами, обходя дороги, направился Чекусов на заброшенный в камыш хутор Обуховку. Там спрятался у родственника-казака, а потом дни и ночи проводил в камыше, греясь около костров, и только изредка в глухие ночные часы наведывался в хутор повидать ребятишек и жену.
Так стал фронтовик, георгиевский кавалер Чекусов дезертиром.
А Панфила Шкоркина на другой же день вызвали к атаману.
Хрисанф Баранов, пятый год бессменно державший насеку, сидел рядом с заседателем, поглаживая аккуратно подстриженную каштановую, слегка седеющую бородку, вежливо спрашивал:
— Чем занимаешься, Шкоркин?
— Почти ничем. Рыбалки-суседи помогают да сетки латаю, тем и живу, — отвечал Панфил.
Старался он стоять перед атаманом на вытяжку, опираясь на костыль… левая нога в коленке изогнута, неловко отставлена в сторону.
Дырявые сапоги грязнили чистый пол талым снежком.
Кумсков нервно зевнул, шелестя бумагами, раздраженно засопел.
— Это ты бунтовал баб? — сдвигая рыжеватые брови, спросил он.
— Они сами взбунтовались.
— А знаешь ли ты, что тебе нельзя заниматься рыболовством во всей гирловой зоне в течение пяти, лет?
— Теперь знаю.
— А как же ты отправился восьмого января на ловлю и ставил собственные сети в Песчаном куге?
— Я не от себя ставил. Дело, ваша благородия, вот как произошло…
— Мне не нужно знать, как это произошло! — вскипел заседатель. — Казак рыболовной охраны Терентий Фролов захватил тебя на месте лова. По показанию солдатки Лукерьи Ченцовой, у тебя были обнаружены испольные сетки с Федорой Карнауховой, сын которой осужден на каторгу за убийство двух казаков.
— Это чистая брехня! — стукнул костылем Панфил.
Брови заседателя полезли вверх.
— Ты, может, скажешь, что не был в ватаге Анисима Карнаухова? — возмущенно вставил атаман и погладил смугловатой ладонью бородку.
Панфил попик головой.
— Скажи, Шкоркин, — снова тихо приступил к допросу атаман, — давно писал ты письмо Анисиму Карнаухову и недвиговскому жителю Якову Малахову?
— Не писал я. Я — малограмотный.
— А с Павлом Чекусовым состоишь в знакомстве?
— С кем ты ведешь разговоры по вечерам у себя в хате? — дополнил вопрос атамана Кумсков.
Панфил силился припомнить, с кем он вел разговоры, отыскать в них преступное, противозаконное — и не находил. Вечерами и по воскресеньям собирались в Панфиловой хате Илья Спиридонов, Иван Землянухин, вернувшиеся с фронта раненые Максим Чеборцов и казак Павел Чекусов. Играли в карты, говорили о войне, о непорядках в хуторе, о том, кому живется хорошо, а кому — худо, вот и все.
«Сказать об этом или нет? Не скажу», — решил Панфил и упрямо взглянул в утомленные глаза заседателя.
Тот что-то записал, обернулся к атаману.
— Я думаю, мы препроводим его в станицу, а там пусть поступают с ним как хотят. Осточертело валандаться с этим подозрительным сбродом. Запишите, Хрисанф Савельевич: «Панфил Шкоркин, иногородний, сорока двух лет, отбывший наказание в Харьковском централе, отвечать на предъявленные ему вопросы отказался. Обвинение в нарушении приговора казачьего станичного сбора в незаконном рыбальстве считать доказанным…»
— Мы можем пока оставить его в хуторе, — криво усмехнулся Баранов.
Кумсков слушал, морщась, подрагивая усами.
— Нет, нет, — замахал он руками, — в хуторе оставлять нельзя! Сейчас же препроводите в станицу.
6В оттепельный пасмурный день в половине февраля, когда особенно остро пахло талым снегом, к Федоре пришла Аристархова Липа. На порыжелых сапогах принесла смешанную со снегом грязь, примерзшие блестки льдинок — след пройденных вброд, взломанных недавней низовкой окрайниц.
Робко просунувшись в дверь, Липа положила на стол завернутый и полотенце темный каравай хлеба, тихонько поздоровалась.
Федора встретила ее с радостной живостью:
— Садись, голубонька, отдыхай, а я тебе чайку согрею.
Липа присела на табуретку у тусклого оконца, не снимая шали. Из-под надвинутого на лоб платка теплились кроткие опечаленные глаза.
— Давненько не заходила, Липонька, — сказала Федора.
— Все некогда, тетя. Зашла вот проведать…