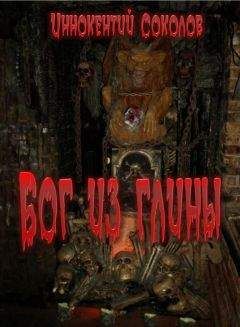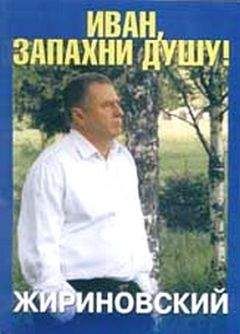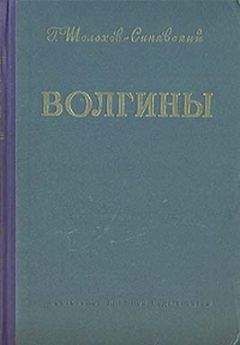Георгий Шолохов-Синявский - Суровая путина
— Не попросим, — задорно отозвалась Маринка и надула яркие губы.
Вентеря ставили в Песчаном куте, Федора деловито, не суетясь, орудовала ломом, рубила проруби. Она быстро закрепила вентеря, поставила запоры, так что Маринка и Лушка только разводили беспомощно руками, мешая излишней суетой.
— Вот и пришлось бы вам Панфила просить вентеря ставить, кабы не я, — пожурила их Федора.
Панфил, помогавший ей крепить оттяжные веревки, ласково сказал:
— Да ты, Федора Васильевна, получше другого мужика справишься. И кто тебя учил, в толк не возьму.
Маринка, пунцовая от мороза, отпихнула груженные сетками санки. Рослая, широкая в бедрах, она упиралась в лед закованными в «бузлуки»[36] башмаками, сгибаясь и показывая из-под сборчатой юбки сильные, обтянутые самовязанными шерстяными чулками икры.
— Да и здоровая же ты, Маринка! — любуясь ею, вздохнула Федора. — Красивая да дебелая. Даром, что без мужа, а как раскохалась…
— А чего ей! У нее свекор получше мужа, — хихикнула Лушка и недобро шмыгнула тонким носом.
Маринка залилась румянцем.
— А ты помалкивай, а то в прорубь столкну. Либо завидно тебе на мою красу, костлявая?
— Ну, ну, довольно вам, — остановила Федора. — Беритесь-ка за сетки… Тяни, Шкорка.
Звонко плеснулась в проруби рыба, ударила раздвоенным оранжевым хвостом. На лед посыпались алмазные брызги. Дрогнули гибкие ободья вентеря. Ленивый тяжелый сазан, хватая воздух и показав зеленое рыльце, ушел в мотню, и долго еще дрожал вентерь, бурлила в проруби малахитово-темная вода.
— Попался, гуляка! Эх, и здоров! — радостно крикнул Панфил.
Федора стояла, оторопело улыбаясь.
— Теперь начнут нырять. К вечеру и выломать придется вентеря.
— Давайте скорей сетки… Отойдем поближе к стремю, — посоветовал Панфил, — рыба, видать, косяком ударилась.
Взволнованные удачным началом ловли, отошли за поросшую осокой косу, на стремнину течения.
Но не успели сделать и одной проруби, как из-за косы показался верховой.
Четкое цоканье подков эхом отозвалось в камышах.
— Бабы, а ведь это Терешка Фролов, — проговорил Панфил, узнав знакомого охранника.
Федора продолжала спокойно рубить лед.
— А чего ему? Не на запретном, же рыбалим.
Подъехав рысью, казак резко осадил рыжего тонконогого коня. Плутоватое, в темных рябинках лицо его, опаленное морозом, горело, глаза пытливо ощупывали женщин.
— Кто рыбалит? — преувеличенно грозно, словно забавляясь своей начальничьей удалью, спросил казак.
— Не видишь чи повылазило? — сердито ответила Федора, взмахивая ломом.
Терешка, как бы что-то припоминая, уставился в Панфила слегка косящими глазами, снял с плеча карабин.
— Чьи сетки? — спросил он.
— Чьи же, как не наши? Тебе говорят! — выступила Маринка.
— Брешете! — неожиданно закричал охранник, соскакивая с коня и подбегая к Панфилу. — Ты, хромая сволочь, думаешь, я не угадал тебя? Уже бабьими юбками прикрываться, стал? Отвечай, чьи сетки?
Панфил боязливо отступал.
— Тебе говорят, чьи… В чем дело? Рыбалим-то мы на законном.
— А разве ты не знаешь, что тебе ни в каком месте рыбалить не полагается? Забыл, крутийская морда, безногий дьявол?! Аль думал, что тебя не знают? Небось, ты у нас в списках первым обозначенный, каторжная душа.
— Что вы, господин Фролов! Побей бог, впервой слышу. Да за что же такая напастина? — недоумевал Панфил.
Маринка напирала на казака, размахивая руками:
— Ты, может, скажешь и нам рыбалить нельзя? Мы солдатки и имеем полное право хоть в запретном. Отойди сейчас же!
— Помолчи, красотка, не об тебе речь, — подмигнул ей Терешка, — с тобой у меня другой разговор будет.
— Я с тобой и по нужде рядом не сяду, кровопивец, не то что разговаривать!
Казак легонько оттолкнул ее прикладом.
— А ну-ка — в сторону. Сетки я отбираю, а ты, крутек, завтра будешь разговаривать с атаманом.
Фёдора стояла в сторонке, тяжело дыша. Пальцы ее, сжимавшие лом, побелели от напряжения, будто прихваченные морозом. Глаза злобно поблескивали из-под платка.
Терешка во-время заметил этот опасный блеск, выставил карабин:
— Клади, тетка, лом… Ну!
Федора бросила лом на лед, сказала с ненавистью:
— Подлая твоя душа! Разве ты не видишь, чьи сетки? Подавись сиротским добром, проклятый!
Губы ее дрожали.
Фролов успокаивал:
— Не серчай, тетка… Чьи сетки, мы разузнаем, а я исполняю приказ начальства насчет этого человека, — он ткнул дулом карабина в Панфила. — Запрещено ему рыбалить в гирлах, хотя бы удочками.
Охранник уложил сетки в сани, пристегнул лямку к седлу, влез на коня. Подмышкой он все время держал взведенный карабин.
Лушка уцепилась руками за стремя. Фролов отпихнул ее ногой. Лушка упала на лед.
— Отдай сетки! — взмолилась Маринка. — Да чего же это такое, бабочки?
— Ты, чернявая, не плачь. Придешь к нам на кордон в Рогожкино и там получишь свое.
Терешка снова подмигнул ей, тронул жеребца и скрылся, за косой.
На льду осталась обезоруженная первая в хуторе женская ватага.
— На горе ты с нами пошел, Шкорка, — первая нарушила тягостное молчание Федора.
Панфил не отвечал, чертил костылем на льду острые узоры. Он все еще не понимал, что случилось с ним, почему нельзя было ему рыбалить в законной полосе. И снова, как и до расправы с казачьим вахмистром, займище показалось ему такой же страшной, безвыходной тюрьмой, как и та, из которой он недавно вышел.
4Заседатель Кумсков, живший у Леденцовых, только что пообедал и, ковыряя в редких прокуренных зубах зубочисткой из гусиного пера, развалился на старой скрипучей кушетке, Целую ночь до самой зари он играл с хуторским батюшкой в преферанс, тянул сладкое церковное вино и теперь чувствовал в голове оловянную тяжесть.
Расстегнув мундир, он жмурил маленькие грязновато-серые глаза, пытался уснуть, чтобы к ночи снова быть бодрым и идти к батюшке, у которого должно было собраться все интеллигентное хуторское общество — учитель и приехавший с германского фронта по болезни в отпуск сын священника — молодой веселый офицер.
Заседатель задремал, когда под окном зазвенел пронзительный бабий крик.
«Что за чорт?» — подумал Кумсков, вскочив. Подошел к окну и невольно отшатнулся: тесный двор Леденцовых был запружен толпой женщин. Они злобно размахивали кулаками, визгливо кричали.
Осторожно приоткрылась дверь, старая лавочница испуганно прошептала:
— Ксенофонт Ильич… там бабы, солдатки… Вас требуют…
Заседатель пристегнул дрожащими руками шашку и револьвер, вышел на крыльцо.
Горланившая толпа женщин — в ней редкими пятнами терялись шинели приехавших на поправку солдат и казаков — с силой навалилась на крыльцо. Сердитые красные лица разом обернулись к заседателю. Маринка — она была впереди всех — оглушила его тонким отчаянным криком:
— Господин заседатель! Чего же это делается, а? Докуда над нами будут измываться?
— В чем дело? — держась за кобуру, спросил Кумсков.
— Порядок надо навесть, вот в чем дело!
Бабы снова нажали на крыльцо. Затрещал точеный балясик.
Кумсков попятился. Овладев собой, он все же громко крикнул:
— Молчать! Говори ты, чего надо? — ткнул заседатель пальцем в Маринку.
Маринка, чувствовавшая храбрость, когда кричали все, вдруг оробела перед внезапной тишиной, перед упорным взглядом холодных глаз заседателя.
— Ваша благородия, разве мы… чего зря… — заговорила она, путаясь от смущения и негодования. — Мы разве виноваты, что наши мужья на фронте? Они, бедные, в окопах там сражаются, а нас тут забижают. Разве так полагается?
Маринка оглянулась, точно желая убедиться, что товарищи не покинут ее, и уже смелее добавила:
— Нынче поехала я с Лушкой Ченцовой да Федорой Карнауховой в Песчанку сетки зарубить, а он налетел, все забрал…
— Кто он? — нетерпеливо поморщился Кумсков.
— Да он, пихрец. А разве мы в запретном рыбалили? Заступись, ваша благородия! Нехай отдадут нам сетки, — застрекотали бабы, заглушая и перебивая друг друга.
Не стерпела и Федора, выступила вперед, помахала кулаком перед самым носом заседателя:
— А у меня мужа пихрецы убили за что? Сетки один раз забрали и другой — за чего? А я вдова. Никого у меня нету. Самой приходится рыбалить и тем кормиться. Чем же мне теперь жить?
Заседатель пристальным взглядом уставился на Федору. Лицо этой угрюмой женщины показалось ему знакомым.
— Как твоя фамилия, баба? — спросил он.
— Карнаухова… — еле слышно ответила та.
— Это твой сын на каторге?
— Мой, — негромко, почти одними губами, вымолвила Федора, но среди тишины ее услышали все.
— Как же ты смеешь просить?! — багровея, закричал заседатель. — Ка-ак ты смеешь? Скажи, милая, спасибо, что я сейчас не заберу тебя да не посажу. Ступай домой да не показывайся мне на глаза. Живо!