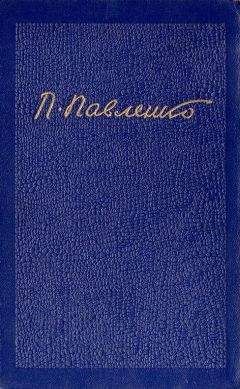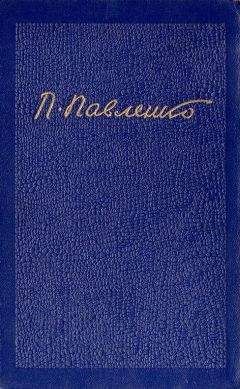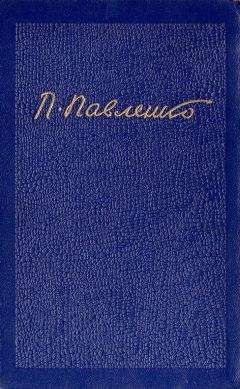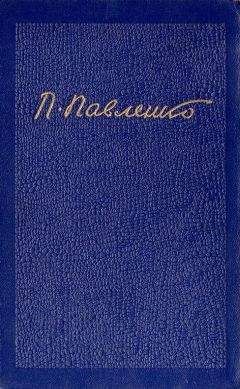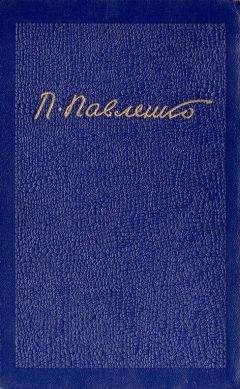Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 1
…Наконец-таки найден человек, покрывший все дома Парижа революционными лозунгами. Никто до сих пор не знал, каким образом дома и заборы изо дня в день украшаются прекрасными девизами. Никто не заказывал фресок, покрывших фасады домов в центре и на окраинах. Вчера я встретил этого человека в клубе. Он прост, как гений. Он говорит о своей работе, подмигивая и улыбаясь.
— Если случится несчастье, — говорит он, намекая на возможную победу версальцев, — так холсты гражданина Курбэ обольют петролем и тихо сожгут в подвале. Со мной так нельзя поступить, — сказал он гордо. — Дом, на стене которого я написал сцену, можно продать, но сцена всегда будет принадлежать улице. Мои надписи нельзя сжечь втихомолку. Когда пошлют маляров закрашивать их, — каждый остановится и подумает: революция кончилась. Я касаюсь своим квачем[26] каждого сердца.
Уходя, он сказал, что почти не живет дома вследствие занятости.
— Каков ваш заработок? — спросил я его.
— Я получаю паек начконгвардейца, — сказал он. — А кроме того, Париж — город гостеприимный. Хватает.
Улица Турнон, 15
В книжной лавке Тибо действительно было шумно. Она походила на оживленное кафе в день особенных биржевых операций. Бросая на конторку заранее приготовленные сантимы за читку газет, непрерывным потоком входили новые посетители, хотя к столу с газетами давно уже нельзя было протолкаться.
— Читайте вслух! — кричали человеку, овладевшему «Таймсом».
— И не подумаю. С какой стати!
— В какой цене «Компания Конго»?
— Я прошу составить мне список фрахтов, — говорил человек в коричневом цилиндре старшему за прилавком, — по Гавру, Лиону, Марселю. Я — Кинг. Что? Вы передайте-ка вашему хозяину, что с ним хочет говорить Кинг.
Из-за тонкой перегородки, за которой ютилась каморка для особо важных бесед и приемов, старик Тибо мог легко все слышать. Он произнес недоумевающим шопотом:
— Кинг?
Сидевший рядом с ним критик сказал:
— Тибо, господь с вами. Кинг — владелец самой крупной мореходной компании… Выйдите к нему.
Старик Тибо раздраженно отмахнулся обеими руками:
— Он никогда не был моим клиентом. И, знаете, друг мой, это дело мне начинает надоедать.
Книжная лавка Тибо принадлежала к числу самых почтенных и хорошо начатых предприятий. Она знала в числе своих постоянных клиентов лучшие имена Франции. Она гордилась ими, как коллеж лауреатами, и не без внутренней гордости записывал старик Тибо в свою записную книжку горы той удивительной книжной премудрости, которой он питал таланты Парижа. Он мог бы подсчитать, сколько знаний, оригинальности, осведомленности или душевности вложил он в то или иное произведение своего прославленного клиента, он просто мог бы разложить любого из современников на отдельные составные элементы из старых книг и старых имен, одно перечисление которых произвело бы переворот в науке о творчестве.
Портреты великих писателей украшали стены лавки. Портреты были с надписями. Они похожи были на заводские модели, получившие премии на выставках. На полках кабинета покоились деловые книги хозяина: одни были посвящены бухгалтерским записям, другие являлись биографиями редчайших книг, третьи вели счет интересам видных клиентов. В них были страницы Золя, Флобера, Гонкуров. Последняя строка на листе, отведенном автору «Ругон-Маккаров», заполненная 10 апреля, гласила: «Он недовольно все одобряет. Подбирать брошюры нынешнего толка. Афиш не собирает».
Книготорговля Тибо дорожила старыми служащими. Приказчики работали поколениями, отец приводил сына подростком и через десять-двенадцать лет сдавал ему свой отдел. С таким, как Габриэль Бонне, ведшим отдел Возрождения, охотно беседовали академики. Подручные при лавке в пятнадцать лет знали больше самого прилежного баккалавра, в девятнадцать они уже выступали (правда, тайком от Тибо) в качестве рецензентов, а после прохождения военного сбора становились профессиональными критиками. Как только в лавке появлялся новый мальчик, кто-нибудь из почетных завсегдатаев, чаще всего Золя, говорил хозяину:
— Старина, это что же такое, опять на нашу голову? Что бы вам выпускать поэтов, а? По крайней мере они никому не вредят.
— Этот славный малый уже меня ощупывает, — бурчал Флобер. — Честное слово, он пишет книгу «Знаменитые встречи» и в ней рассказывает, что мы за дурачье, когда сидим у Тибо и пьем гренадин. Он потом будет говорить, что я с ним полемизировал и оказался, конечно, битым.
Но к Габриэлю Бонне захаживали академики, а Жан — Поль Марат (тезка великого человека) из года в год поставлял примечания к словарю Академии, и аббаты охотно выслушивали соображения самого Тибо о гебраической[27] литературе. Старик был страшно невежественен, но знал все. Ни один ученый не мог бы обладать его эрудицией, так как она выходила за пределы знания, и он сам про себя говорил с легкой иронией: «Ученый не тот, кто все знает — такого нет; не тот, кто и много знает — тут нет границ; ученый знает, что нужно знать и чего можно не знать в данный момент, другими словами — который знает, до каких пределов он знает, потому что немногие знают пространство своего познания». Старик Мишю ведал греческими и римскими поэтами, он знал их всех наизусть, помнил, когда, где и как они были изданы, кто собирает их, кто исследует; и каждый раз, как появлялась в печати новая статья о Горации, Эпикуре или Сафо, шел на дом к автору, подозрительно с ним знакомился и громогласно отчитывал за невежество, пошлость или спекулятивность взглядов.
У Тибо был сын. Лавка служила ему детской, потом классной комнатой, потом чем-то средним между дискуссионным клубом и лекционным залом коллежа. Молодой Тибо не собирал книг, не мечтал стать исследователем, не задумывался над лаврами критика, и так как он еще к тому же был сыном хозяина, то каждый шеф отдела увлеченно вводил его в самые глубочайшие тайны своего ремесла. Римских и греческих классиков он знал с детства со слуха. Это были его первые сказки, о которых невозможно потом рассказывать, были ли они прочитаны, услышаны или выдуманы самим. Классиков и ересиархов[28] гебраизма отец цитировал дома запросто, как предсказания календаря о погоде, а Бонне, рассказывая о происшествии на рынке или скандале в кафе, подкреплял изложение соответственным анекдотом из эпохи людей Возрождения. Французские энциклопедисты были единственными людьми, на которых он мог сослаться, почти не задумываясь. Марат любил говорить только справками, примечаниями. Все происходящее в мире, если оно не поднималось в своей принципиальной значительности до включения в словарь Академии, нисколько не занимало его.
В двадцать лет молодой Тибо знал все, что было в книгах человеческой цивилизации. Было непонятно, чем он займется. И потому дома сочли совершенно естественным, что он робко заинтересовался искусством. Его познакомили с десятками молодых живописцев, еще не имеющих имени, чтобы он попробовал себя в тренировке. Ему предстояло создать или разрушить несколько репутаций, и каким образом он это проделает, никого уже в лавке не интересовало. Он выбрал себе псевдоним «Анатоль Франс», но все в лавке были уверены, что он никогда не понадобится молодому хозяину. Если бы тогда сказали старику Тибо, что его сын станет знаменитым писателем, он лишь недоверчиво пожал бы плечами. Возможно, что молодому Тибо хотелось еще заняться историей. Отправляясь, бывало, в очередь за петролем или садясь в омнибус, он стал брать с собой томик Плутарха. Иногда он перелистывал записки Цезаря или засыпал, покрыв лицо от мух Титом Ливием.
Потом все в лавке стали обращаться к нему, как к резерву общей лавочной памяти. Он был молод, свободен, и в голове его было просторно. В конце концов на него возложили прием почетных гостей за перегородкой. Здесь рассказывались события, еще не вошедшие ни в одно примечание, упоминались люди, не состоящие ни в одном словаре, произносились вслух мысли, еще не втиснутые ни в одну книгу. За перегородкой шла жизнь, чужая лавке, потому что она еще не была издана.
Размахивая скомканной газетой, как большим носовым платком, размашисто входил за перегородку Эрнест Додэ.
— Ах, боги жаждут! — кричал он, хрипя от одышки. — Наши боги все жаждут! — и прочитывал сводки с фронта, сообщения об арестах и угрозы скрытым врагам.
За прилавком, в ответ на восклицание, шефы обменивались тихими репликами.
— Фраза из Карлейля, — оживленно произносил Марат.
— Прошу извинения, это формула объявления войны у африканских племен…
— И не из Карлейля, друзья мои, и не формула, — перебивал старший Мишю, — это сказано о нашей колониальной политике. Шестнадцатый том Ежегодника Министерства иностранных дел.
Флобер вбегал, как переодетая в театральный костюм ведьма. Его бархатная куртка была в мелу, необыкновенный жилет цвета солнечного заката отбрасывал отражения, белая шляпа на голове не позволяла взглянуть ему в лицо, так резок был ее свет, так много было на ней солнца.