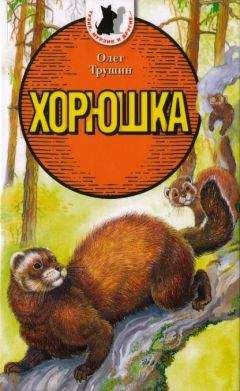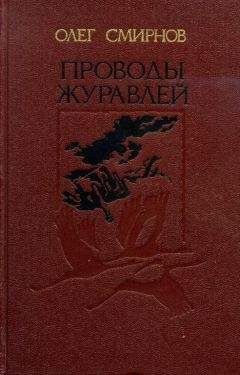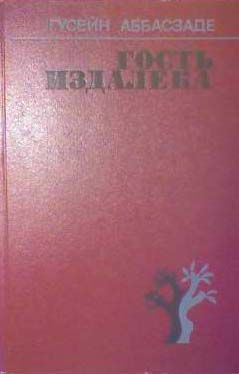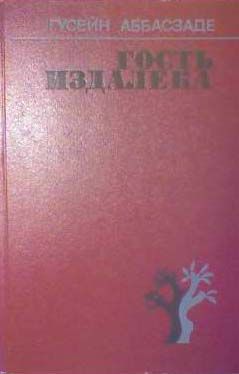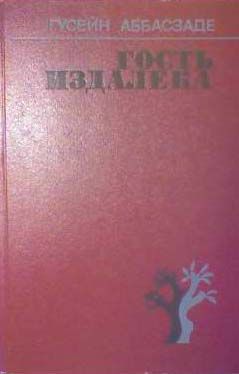Олег Шестинский - Блокадные новеллы
Небо синее, оно стало глубже, словно повзрослело за лето. Хорошо лечь на сухую хвою в редком бору и долго- долго смотреть в небо. И тогда особенно поймешь, как волнуется лес, ожидая чего-то нового. Вершины деревьев движутся, то сходятся по двое, по трое, то расходятся в стороны, и все время говорят, говорят… Красные плоды ландышей клонятся к земле, костяника на сухих длинных стеблях пламенеет ало. Я срываю ее и смотрю через ее ягоды на солнце. Ягоды становятся прозрачными, налитыми, багряными, и в серединке их темнеет зернышко. Сосновый кустарник густо зелен.
Я вижу, как из кустарника на песчаную лесную дорогу выходит женщина; на ней цветной платок, синяя кофта, на полных ногах невысокие сапоги из кожи. Она идет статно, чуть покачиваясь, с плетеной корзинкой в руках, и ветер обвивает полы ее юбки вокруг ног. Я смотрю на нее и всем своим существом чувствую в этот миг, что ранняя осень — это не увядание, а нечто щедрое и, может быть, щемящее.
Озарение
По узкоколейке ходил древний паровозик и тащил скрипучие вагоны. Поезд останавливался у каждого переезда, и все они были знакомы пассажирам до подробностей, потому что пассажиры постоянные: рабочие с молокозавода, с лесоразработок. Лишь в летнее время появлялась новая разновидность пассажиров — «дачные мужья» из областного города, обремененные кошелками и свертками.
И природа тоже уже не поражала ничей взгляд, хотя из окон поезда открывались живописные виды: сосновые боры, шумные речонки в блестящих камнях.
Но в одном месте дороги, у разъезда «Шестьдесят семь», глаза пассажиров оживлялись, все льнули к окну и кивали путевому обходчику.
А дело в том, что звали путевого обходчика на разъезде Настей и считалась она самой красивой девушкой в селе Холмцы, что лежало километрах в двух от разъезда.
Настя стояла у насыпи, когда проходил поезд, в железнодорожной фуражке, из-под которой выбивались русые пряди. Она была красива той спокойной русской красотой, которая не часто встречается ныне, а если и встречается, то в местах, далеких от больших городов, Свой желтый флажок она держала так доверчиво и добро, словно сама про себя радовалась, что путь открыт и она об этом сообщает людям. Она скользила глазами по окнам и улыбалась знакомым.
И было так изо дня в день.
И вот произошло событие, которое привело в волнение постоянных пассажиров этого поезда.
В конце сентября, в синий и солнечный полдень, подошел поезд к шестьдесят седьмому километру, и вдруг ахнули все, потому что на деревянном настиле у сторожки стояла не Настя, а солдат. Он стоял, расставив ноги, в гимнастерке с распахнутым воротом. Его счастливое лицо пассажиры разглядели до малейших подробностей — и ровные белые зубы, и синие глаза, в которых дробилось солнце, и волосы, упавшие на лоб и рассыпавшиеся по нему. Но больше всего поразило то, что держал солдат в руке флажок, Настин, желтый, и он, солдат, открывал поезду дорогу. А держал флажок неумело, зачем-то руку согнув в локте. Он держал флажок с каким-то наивным торжеством и бесшабашной лихостью, и машинист даже на секунду притормозил, несколько растерявшись от столь необычной картины. А за спиной солдата на пороге сторожки, смущенная и взволнованная, стояла Настя. Она была все в той же своей фуражке и в тужурке с блестящими пуговицами, но весь вид ее казался таким юным и необыкновенным, что пассажиры покрутили головами, посмотрели друг на друга: «Ну и ну!» За этими словами они словно скрывали свою растерянность и, может быть, ревность. И тогда один выпалил:
— Да ведь это Колька из Холмца!
Все разом засуетились, закричали:
— Точно, он!
А кто-то высунулся и звонко, срывающимся голосом завопил:
— Привет, Коляня, шуруй!
Была в этом забубённая удаль, которой часто на Руси прикрывают нежное и чистое, что поднимается со дна души.
Я знал их историю.
Еще до армии встречались Настя и Николай на вечеринках. Провожал он ее, целовал у изгороди. О любви ни слова не говорил. А когда в армию призвали, гулял Николай два дня с ребятами.
А Настя его провожала и подарила ему кисет с махоркой, как всегда и полагалось на военных проводах, и махала ему, заплаканная, когда он уезжал.
Писем от него не приходило.
Месяца через три после отъезда Николая посватался к ней телеграфист с вокзальной почты. Он говорил:
— Вы увянете без мужской любви. А у меня есть и дом под городом, и у мамаши моей корова отелилась.
Настя расплакалась и в слезах выпроводила его из дома. Он вышел на улицу, стряхнул соломинку с пиджака, сказал рассудительно:
— Вы все-таки поимейте меня в виду.
Через год осенью приехали студенты на уборку. И один из них, Вася, после работы преданно приходил к ней на линию. Он носил очки, щурился близоруко, когда их снимал, из кармана куртки у него всегда торчал учебник математики.
— Знаете, — говорил он, — с такой интересной теоремой познакомился сегодня!
Можно было подумать, что он встретил человека удивительной судьбы, — Вася говорил о теоремах, как о живых людях.
Настя плохо знала математику, но Васина горячность ее увлекала, и она слушала о тангенсах и гипотенузах, как рассказ о неведомом, но красивом мире.
Перед отъездом Вася пришел молчаливый, долго стоял в дверях, потом сказал:
— Настя, давайте каждый день писать друг другу письма.
Настя ответила:
— Вы очень хороший, Вася, но я не могу вам писать.
Вася протер очки, полистал зачем-то учебник и медленно пошел от сторожки вдоль полотна.
А Николай просто песню запел, когда к ее дому стал подходить:
— «Живет моя отрада…»
И Настя плеснулась к окну и увидела его с деревянным чемоданом в руке. Споткнулась о порог, выбежала, замерла. Колька в канаву бросил чемодан, пилотку зачем-то прямо в небо швырнул, схватил на руки Настю и не в дом понес, а на луг, что возле дома, и целовал ее под солнцем, среди мокрой болотной травы. Она лежала, тихая, у него в руках, потом встрепенулась, прошептала:
— Поезд восьмичасовой… Надо желтый…
И Колька бросился в дом, взял желтый флажок и встал у железнодорожной насыпи, такой богатый, словно всех пропускал в счастье.
Я тоже смотрел из окна.
— Дождалась, — сказал я, — самого главного.
— Чего самого главного? — недоуменно спросил сосед.
— Не знаю… У каждого оно свое, это главное.
И подумал, что главное — это, наверное, дождаться чувства, которое бы озарило всю жизнь до ее конца. И потом еще подумал с грустью, что совсем не просто его дождаться, ибо жизнь человеческая скоротечна, а человек так не любит ждать!
Васька
Ваську так и звали в поселке — Васька-моторист. Ему было лишь девятнадцать, а он уже четвертый год ходил по Ладоге на рыболовецком судне, и старые рыбаки говорили:
— Добрый капитан выйдет.
Но по виду оставался Васька — мальчишка мальчишкой. Во-первых, длинный и тощий, никакой представительности; во-вторых, в веснушках лицо, а это уж совсем несолидно; и в-третьих, рыжие Васькины волосы торчали вихрами в разные стороны, словно их разметал ветер в шторм, и они так и застыли.
Да и вел себя на берегу Васька не как взрослый: таскал яблоки с дружками у деда Анисима и даже один раз поздно вечером ходил с огольцами на кладбище, там они выли, наводя страх на прохожих.
И вот этот самый Васька влюбился. В Зинку-буфетчицу. Она была лет на пять старше его, жила самостоятельно, одна, и зорко следила за ленинградской модой. А еще она обожала лузгать семечки, и осенью у нее на прилавке лежали желтые круги подсолнухов.
В буфете продавались бутерброды, запыленные от времени конфеты и пиво. Главное, конечно, пиво. И наливать его Зинка умела с шиком: она чуть наклоняла голову, кудри спадали на одну сторону, оттопыривала мизинчик, открывала кран. Потом она говорила:
— На здоровьице!
Разумеется, так она наливала не всем, а только начальству и тем, кто симпатичней.
Васька приходил в буфет и просто стоял у прилавка. Сначала Зинка не обращала на Ваську внимания, а однажды спросила:
— Тебе чего? — и удивилась, что он покраснел до корней волос.
Зинка воспринимала его любовь равнодушно, и только когда в буфете собиралось много народу, бросала Ваське:
— Отойди, мешаешь!
Вот почти все их разговоры и были.
Однажды приковыляло к берегу рыбацкое судно. Не местное. Дальнего колхоза. Поволокла его волна по камням, попортила. В поселке был судоремонтный завод, и решил капитан подправить судно, чтобы до дома добираться.
Команда — пятеро моряков, молодые ребята, — поселилась в доме для приезжих. Они ходили по поселку все вместе, чуть покачиваясь, и изображали на лицах грусть, — ведь они потерпели кораблекрушение. Заводилой у них был Семен. Плотный и чернявый, он выделялся тем, что у него на каждом пальце было вытатуировано по якорю.