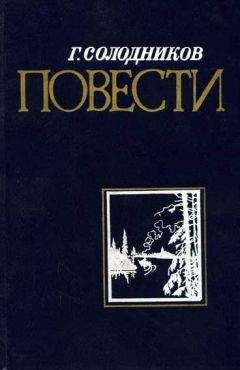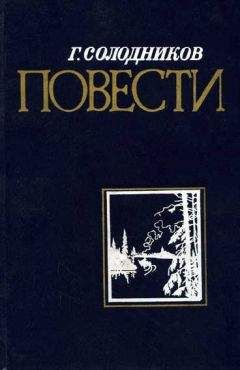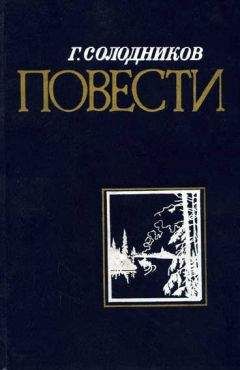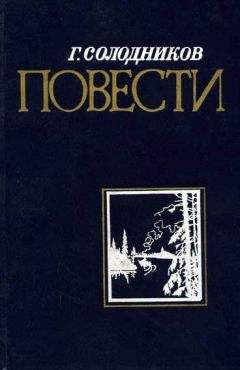Геннадий Солодников - Колоколец давних звук
Подпаски, Толяс с Зиновием, попросту Зинкой, были мало знакомы Пашке. Оба — безотцовщина, школу бросили еще до приезда Тюриковых в поселок. Зимой подрабатывали учениками в артели жестянщиков, а по весне потянулись на вольные хлеба. Самостоятельные пацаны, года на два старше Пашки. На него они вроде и внимания не обращали. Так, незаметно, искоса, поглядывали, примерялись, щеголяя грубыми словечками, присказками, награждая строптивых коров «ласковыми» названиями. Отец, хотя сам не был матерщинником, не одергивал их и Пашке не досаждал поучениями. Молча шел позади стада, сжав в тяжелой руке смотанный на рукоять длинный витень.
Коров они направили вправо от пруда по тракту, ведущему к старинной пристани Борки. Загнали стадо в разреженный массив неподалеку от дороги. Слева лес этот примыкал к небольшой речке Куликовке, справа его обрезала широкая вырубка. Толяса с Зинкой отец оставил караулить на дороге в нижней части просеки. Пашке же наказал через некоторое время подняться в ее дальний конец и не допускать коров в глухие леса. Сам, не мешкая, ушел вдоль выруба в речной угол массива.
— Чудно! — хмыкнул Толяс и покосился на Пашку. — Я-то думал, отец твой нас с Зинкой туда пошлет.
Пашка только сейчас понял, что он косит глазом не нарочно — это у него постоянное, природное.
— Как ино, — подхватил Зинка. — И я тоже так ждал, Родимому сыночку — местечко получше. А он тебя в самую даль выпер. Так нам еще можно жить.
— Ладно! Ты… — прикрикнул на него Толяс, видимо недовольный его открытым выражением радости. — Не шлепай… — Достал из-за пазухи матерчатый кисет, как заправский курильщик, ловко свернул ладную цигарку. Зинка тоже потянулся к кисету, скрутил тонюсенькую «козью ножку».
— Балуешься? — подвинул Толяс кисет к Пашке.
— Не-е, — протянул тот, хотя изредка покуривал с Левкой, когда удавалось достать настоящие папироски. Протянул так, словно ягненок проблеял, и сам себе не понравился. Не так надо было, по-другому… Засмолить вместе с ребятами на равных. Авось сближение пошло бы скорей.
— Где ему! — поддел Зинка. — Папаня унюхает — врежет, отшибет охотку-то.
Толяс не поддержал его подначки, внимательно поглядел на Пашку.
— Чё, семилетку закончил? А дальше куда? В ремеслуху?
— Не знаю еще, — соврал Пашка.
— Ну-ну, учись, — снисходительно разрешил Толяс. — В начальство выйдешь, после будешь командовать нами. Может, когда вспомнишь, как пастушили вместе.
Вроде бы ничего и не делал Пашка, а убегался, уморился за день. Просека длинная, широкая. Одну корову завернешь, вторую. Туда-обратно ходка — целый километр. Сколько к вечеру-то набежало их! А потам загонка, прочесывание леса от дальней кромки до самого тракта. Наконец собрали все стадо, погнали домой. Задымилась дорога, густо потянуло взбитой пылью, коровьими лепехами, парным молоком. Одна пеструха с крутыми лоснящимися боками — Пашка ее еще днем заприметил — нагуляла такое вымя, что еле-еле вышагивала, задние ноги выбрасывала широко, раскорякой.
Отец шел чуть впереди, сбоку стада. Все трое подпасков сзади. Ребята явно торопились, подгоняя замешкавшихся. Особенно доставалось грузной пеструхе с налитым выменем. Толяс нет-нет да щелкнет ее бичом. Потом разозлился, кинулся за ней с криком. Она шарахнулась от него вприпрыжку, неловко взлягивая. Вымя тяжело забултыхалось, из набрякших сосков брызнуло молоко, выбивая в пыли неглубокие лунки.
Пашка поначалу растерялся, потом подскочил к Толясу.
— Озверел, что ли!
— А тебе чё? Вот перепояшу витнем. Заступник! — окрысился Толяс. — И бати твоего не испужаюсь. Тоже мне…
— Брось рыпаться, — заступился за Пашку Зинка. — Чего ты в самом деле?
Толяс недобро глянул черным глазом на них обоих, сунул кнут под мышку и направился на другую сторону дороги. Так и шел молча до самой плотины, ни на что не обращая внимания. С нарочитым безразличием потягивал самокрутку да фасонисто циркал сквозь зубы себе под ноги.
А Пашка снова мысленно выговаривал себе за глупое поведение. И чего ему надо было соваться куда не просят. Будь она неладна, эта корова! Чужая ведь, не своя. Стоит ли из-за нее в первый же день ссориться с Толясом. Он и без того вон какой: хмурый, насупленный. От такого чего угодно можно дождаться…
Недолго корил себя Пашка. До середины плотины дошли, глядь, дружки его сидят на рубленых клетках-ряжах. Ряжи эти уже подгнили местами. Волны вымыли из них гальку с песком, и в глубоких промоинах, да и на чистой воде возле срубов, хорошо ловились ерши да окуни. Особенно по вечерам так клевали, что успевай забрасывать. Вот и сейчас, наверное, тешат себя рыбалкой Левка с Семкой, отводят душу.
Но ребята и не думали рыбачить, не было у них удочек в руках. Сидели, болтали ногами, в воду поплевывали, словно нарочно поджидали Пашку. Поздоровались небрежно и пошли рядом, не расспрашивая ни о чем. Семка взял из Пашкиных рук вицу, как заправский пастушонок, стал подстегивать отставших коров. Так и шли вместе до самого главного прореза, где хозяйки встречали своих буренок-кормилиц. Тут Левка хитро подмигнул дружкам и скатился с откоса.
Внизу под берегом, возле самого сливного моста гудела электромотором, ширкала жерновами мельница. Со всех окрестных колхозов — а вокруг поселка их было с пяток: что ни деревня, то колхоз, — мололи здесь зерно. И ребята нередко паслись вокруг. Рискуя нарваться на подзатыльник, ухитрялись схватить на помосте под лотком-конусом, где насыпали мешки, горсть-другую муки. Вкусная она была, еще парная из-под жерновов, пахучая. Набьешь ею полный рот — что тебе каша-заваруха!
Отец не стал торопить Пашку домой, один погнал и свою коровенку, и соседских с улицы. Остались Пашка с Семкой вдвоем. Семка тут только робко, с оглядкой — чувствовалось, как он подбирает слова, — спросил:
— Ну как? Ничё… Можно пасти?
— Пока ничё, — в тон ему ответил Пашка. — Не знаю, как в жару будет. Теперь прохладно — ни комарья, ни паутов.
— Я как-нибудь соберусь с тобой, отпрошусь у матери. Не заругает твой отец?
— Да ты что! — заторопился Пашка, чувствуя, как что-то ласковее встрепенулось у него внутри. — Конечно, нет. Какой разговор.
Тут и Левка подоспел. Встрепанный больше обычного: резинка в его фланелевых шароварах ослабла, опушка съехала на живот, рубаха задралась, пупок наголе. А сам довольный, улыбка во всю рожу, вокруг рта белые мучные усы. И в руках полная кепка.
— Живем, ребя! Давай отсюда в клубный садик.
Весь вечер не покидало Пашку хорошее настроение. Уже засыпая под тяжелым тулупом в чулане, он вспомнил Левкину озорную физиономию и мысленно сказал сам себе, словно спокойной ночи пожелал: «Живем, ребя!»
5
Каждый день спозаранку, оглашая улицы новеньким пастушьим рожком, Пашка вышагивал рядом с отцом, собирал стадо. Он часто встречал знакомых пацанов с удочками, отправлявшихся пытать переменчивое рыбацкое счастье, но уже не смотрел им вслед с прежней болью и тоской. Свою занятость, прочную прикованность к повседневной работе стал переносить довольно спокойно. И заманчивые россказни соседских мальчишек и одноклассников со временем уже не вызывали в нем зависти. Он постепенно смирился с мыслью, что настоящая бурная ребячья жизнь идет мимо него, стороной.
Трудней приходилось, когда стадо возвращалось домой. Каждое такое возвращение Пашка переживал как мучительную пытку, На плотине в урочный час коров встречали чаще всего не придирчивые хозяйки, а их шустрые помощницы-девчонки. Среди них было много знакомых. С ними Пашка бегал в школу, сидел в классе, проводил пионерские сборы. Давно ли они таскали этих девчонок за косы, могли дать под бок чувствительного тычка или припечатать сумкой по худеньким лопаткам… Теперь девчонки стали не те.
Вон попробовал было Пашка по старой памяти побороться с соседской Женькой — и ничего у него не вышло. Женька — озорная, пацан пацаном, вечно с ними вместе: и в сыщики-разбойники играть, и кучу малу громоздить. В обиду себя не давала, по-взаправдашнему отмахивалась от обидчиков. В шутливой схватке Пашка раньше не раз валил ее на землю и накрепко прижимал, не давая вывернуться. А тут вдруг ничего не получилось. Женька бросила его самого. И раз, и два. Пашка уж не рад был затеянной возне, уходил от борьбы, растерянно отпихивался от разгоряченной Женьки, не понимая, что это такое с ним. И Женька уж недоуменно поглядывала на него, дразняще хихикала, подзадоривая: чего, мол, скис? А Пашка и сам толком не знал, отчего он не может побороть Женьку. Только они сойдутся вплотную, только попытается Пашка обхватить ее покрепче, стиснуть изо всех сил, только почувствует необычную мягкость на своей груди — куда и сила уйдет, исчезнет сноровка. Тело становилось непослушным, обмякало, руки расслабевали, и он летел, словно земля сама притягивала его к себе…