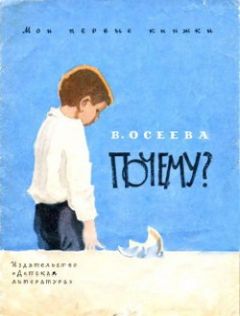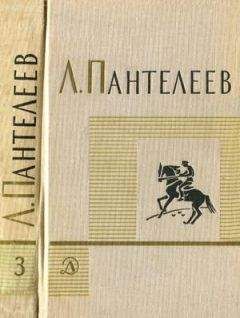Л. Пантелеев - Том 3. Рассказы. Воспоминания
— Здравствуй, Морозова!
Ребятам, конечно, было очень интересно узнать, что у нее слышно нового и нет ли известий от отца, но никто не спросил у нее об этом, и только Лиза Кумачева, когда новенькая уселась рядом с ней за парту, негромко сказала:
— Что, нет?
Морозова покачала головой и глубоко вздохнула.
За ночь она еще больше осунулась и похудела, но, как и вчера, жиденькие белокурые косички ее были тщательно заплетены, и в каждой из них болтался зеленый шелковый бантик.
Когда зазвенел звонок, к парте, где сидели Морозова и Кумачева, подошел Володька Бессонов.
— Здравствуй, Морозова. С добрым утром, — сказал он. — Сегодня погода хорошая. Двадцать два градуса только. А вчера двадцать девять было.
— Да, — сказала Морозова.
Володька постоял, помолчал, почесал затылок и сказал:
— А что, интересно, Киев большой город?
— Большой.
— Больше Ленинграда?
— Меньше.
— Интересно, — сказал Володька, помотав головой. Потом он еще помолчал и сказал:
— А как, интересно, будет по-украински собака? А?
— А что? — сказала Морозова. — Так и будет — собака.
— Гм, — сказал Володька. Потом он вдруг тяжело вздохнул, покраснел, посопел носом и сказал:
— Ты… это… как его… не сердись, что я тебя вчера плаксой-ваксой назвал.
Новенькая улыбнулась и ничего не ответила. А Володька еще раз шмыгнул носом и отправился к своей парте. Через минуту Морозова услышала его звонкий, захлебывающийся голос:
— Ребята, вы знаете, как по-украински будет собака? Не знаете? А я знаю…
— Ну, как же, интересно, будет по-украински собака?
Володька оглянулся. В дверях, с портфелем под мышкой, стояла Елизавета Ивановна, новая учительница.
— Собака — собака и будет, Елизавета Ивановна, — сказал Володька, поднимаясь вместе с другими навстречу учительнице.
— Ах, вот как? — улыбнулась учительница. — А я думала, как-нибудь поинтереснее. Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста.
Она положила на столик портфель, поправила на затылке волосы и опять улыбнулась:
— Ну, как поживают наши уроки?
— Ничего, Елизавета Ивановна, спасибо. Живы, здоровы! — закричал Володька.
— А это мы сейчас увидим, — сказала учительница, раскрывая классный журнал.
Взгляд ее пробежал по списку учеников. Все, кто не очень уверенно чувствовали себя в этот день в арифметике, — съежились и насторожились, только Володька Бессонов нетерпеливо подпрыгивал на своей задней парте, мечтая, как видно, что его и тут вызовут первым.
— Морозова — к доске! — сказала учительница.
Почему-то по классу пробежал ропот. Всем показалось, наверно, что это не очень-то хорошо, что вызывают Морозову. Можно было бы сегодня ее и не беспокоить.
— Отвечать можешь? — спросила у новенькой учительница. — Уроки выучила?
— Выучила. Могу, — чуть слышно ответила Морозова и пошла к доске.
Отвечала она урок очень плохо, путалась и сбивалась, и Елизавета Ивановна несколько раз обращалась за помощью к другим. И все-таки не отпускала ее и держала у доски, хотя все видели, что новенькая еле стоит на ногах, и что мел у нее в руке дрожит, и цифры на доске прыгают и не хотят стоять прямо.
Лиза Кумачева готова была расплакаться. Она не могла спокойно смотреть, как бедная Валя Морозова в десятый раз выписывает на доске неправильное решение, стирает его и пишет снова, и опять стирает, и опять пишет. А Елизавета Ивановна смотрит на нее, качает головой и говорит:
— Нет, неправильно. Опять неправильно.
«Ах, — думала Лиза. — Если бы Елизавета Ивановна знала! Если б она знала, как тяжело сейчас Вале! Она бы отпустила ее. Она бы не стала ее мучить».
Ей хотелось вскочить и закричать: «Елизавета Ивановна! Хватит! Довольно!..»
Наконец, новенькой удалось написать правильное решение. Учительница отпустила ее и поставила в журнале отметку.
— Теперь попросим к доске Бессонова, — сказала она.
— Так и знал! — закричал Володька, вылезая из-за своей парты.
— А уроки ты знаешь? — спросила учительница. — Задачи решил? Не трудно было?
— Хе! Легче пуха и пера, — сказал Володька, подходя к доске. Я, вы знаете, за десять минут все восемь штук решил.
Елизавета Ивановна дала ему задачу на что же правило. Володька взял мел и задумался. Так он думал минут пять, по меньшей мере. Он вертел в пальцах огрызок мела, писал в уголке доски какие-то малюсенькие цифры, стирал их, чесал нос, чесал затылок.
— Ну, как же? — не выдержала наконец Елизавета Ивановна.
— Минуточку, — сказал Володька. — Минуточку… я сейчас… Как же это?
— Садись, Бессонов, — сказала учительница.
Володька положил мел и, ни слова не говоря, вернулся на свое место.
— Видали! — обратился он к ребятам. — Каких-нибудь пять минуток у доски постоял и — целую двойку заработал.
— Да, да, — сказала Елизавета Ивановна, оторвавшись от журнала. — Одним словом — легче пуха и пера.
Ребята долго смеялись над Володькой. Смеялась и Елизавета Ивановна, и сам Володька. И даже новенькая улыбалась, но видно было, что ей не смешно, что улыбается она только из вежливости, за компанию, а на самом деле ей не смеяться, а плакать хочется… И, взглянув на нее, Лиза Кумачева поняла это и первая перестала смеяться.
В перемену несколько девочек собрались в коридоре у кипяточного бака.
— Вы знаете, девочки, — сказала Лиза Кумачева, — я хочу поговорить с Елизаветой Ивановной. Надо ей рассказать про новенькую… Чтобы она с ней не так строго. Ведь она не знает, что у Морозовой такое несчастье.
— Пойдемте, поговорим с ней, — предложила Шмулинская.
И девочки гурьбой побежали в учительскую.
В учительской рыжая Марья Васильевна, из четвертого «А», разговаривала по телефону.
— Да, да… хорошо… да! — кричала она в телефонную трубку и, кивая, как утка, головой, без конца повторяла: — Да… да… да… да… да… да…
— Вам что, ребята? — сказала она, оторвавшись на минуту от трубки.
— Елизаветы Ивановны тут нет? — спросили девочки.
Учительница показала головой на соседнюю комнату.
— Елизавета Ивановна! — крикнула она. — Вас ребята спрашивают.
Елизавета Ивановна стояла у окна. Когда Кумачева и другие вошли в комнату, она быстро повернулась, подошла к столу и склонилась над грудой тетрадок.
— Да? — сказала она, и девочки увидели, что она торопливо вытирает платком глаза.
От неожиданности они застряли в дверях.
— Что вы хотели? — сказала она, внимательно перелистывая тетрадку и что-то разглядывая там.
— Елизавета Ивановна, — сказала, выступая вперед, Лиза. — Мы хотели… это… мы хотели поговорить относительно Вали Морозовой.
— Ну? Что? — сказала учительница и, оторвавшись от тетрадки внимательно посмотрела на девочек.
— Вы знаете, — сказала Лиза, — ведь у нее отец…
— Да, да, девочки, — перебила ее Елизавета Ивановна. — Я знаю об этом. Морозова очень страдает. И это хорошо, что вы о ней заботитесь. Не надо только показывать, что вы ее жалеете и что она несчастнее других. Она очень слабая, болезненная… в августе у нее был дифтерит. Надо, чтобы она поменьше думала о своем горе. Сейчас о своем много думать нельзя — не время. Ведь у нас, милые мои, самое ценное, самое дорогое в опасности — наша Родина. А что касается Вали — будем надеяться, что отец ее жив.
Сказав это, она опять склонилась над тетрадкой.
— Елизавета Ивановна, — сказала, засопев, Шмулинская, — а вы почему плачете?
— Да, да, — сказали, окружив учительницу, остальные девочки. — Что с вами, Елизавета Ивановна?
— Я? — повернулась к ним учительница. — Да что с вами, голубушки! Я не плачу. Это вам показалось. Это, наверно, с мороза у меня глаза заслезились. И потом — здесь так накурено…
Она помахала рукой около своего лица.
Шмулинская понюхала воздух. В учительской табаком не пахло. Пахло сургучом, чернилами, чем угодно — только не табаком.
В коридоре затрещал звонок.
— Ну, шагом марш, — весело сказала Елизавета Ивановна и распахнула дверь.
В коридоре девочки остановились и переглянулись.
— Плакала, — сказала Макарова.
— Ну, факт, что плакала, — сказала Шмулинская. — И не накурено ни чуточки. Я даже воздух понюхала…
— Вы знаете, девочки, — сказала, подумав, Лиза. — Я думаю, что у нее тоже какое-нибудь несчастье…
После этого Елизавету Ивановну никогда больше не видели с заплаканными глазами. И в классе, на уроках, она всегда была веселая, много шутила, смеялась, а в большую перемену даже играла с ребятами во дворе в снежки.
К Морозовой она относилась так же, как и к остальным ребятам, задавала ей на дом не меньше, чем другим, и отметки ставила без всякой поблажки.
Училась Морозова неровно, то отвечала на «отлично», то вдруг подряд получала несколько «плохо». И все понимали, что это не потому, что она лентяйка или неспособная, а потому, что, наверно, дома она вчера весь вечер проплакала и мама ее, наверно, плакала, и — где ж тут заниматься?