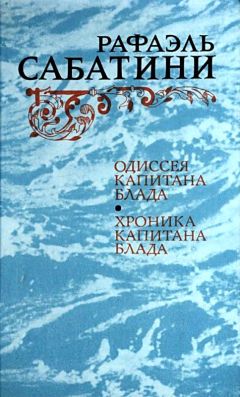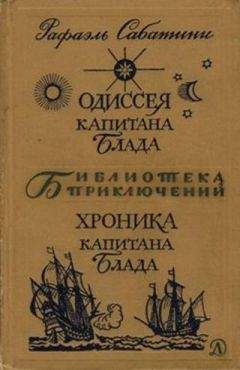Радий Погодин - Мост. Боль. Дверь
Панька коротким сильным тычком распечатал еще одну поллитровку, выставил вперед широченную в ступне босую ногу, руки раскинул крыльями и запел: «Среди долины ровныя…»
От его пения, от его странного и невозмутимого вида, от водочного тепла Ваське Егорову захотелось вдруг и спать и сражаться до последней пули одновременно. Осознав, что пуля в его винтовке действительно единственная и последняя, что все утро он держал оборону на том берегу реки, что еще раньше он упал с моста, Васька разволновался и скривился, снова увидел летящего в небо Алексеева Гогу, и лишь тогда к нему вернулась мысль, что сегодня его день рождения, — икнув, он принял и Паньку, и Антонина, и эфиопа, и магазин с винами за подарок судьбы.
— У, черт… — сказал Васька громко и засмеялся.
Антонин, ставший еще более призрачным, еще более в зелень, посмотрел на него птичьим взглядом.
— Ты Паньку не чертыхай, — сказал он. — Панька песни поет, сказки рассказывает — скоморох он. Он и врачевать может наложением рук. Он на нашей земле последний. И отец его был скоморохом, и деды.
— Волховали деды, — поправил Панька.
Антонин колыхнулся, как туман от внезапного сквозняка.
— И Панька волховать могет. Хочешь, смелости тебе наколдует и геройского безумства.
— Это все не нужно ему, — сказал Панька грустно. — Это женщинам нужно, чтобы войну терпеть.
Еще раз подивясь своему необычайному дню рождения, Васька Егоров встал, взял с прилавка клочок оберточной бумаги и карандаш.
— Вы извините, — сказал он. — Это я не вас чертыхнул. Это от удивления, что сегодня у меня день рождения. Гога Алексеев улетел ввысь, а вы здесь… Разрешите, я у вас адрес возьму. Надеюсь после войны посетить…
— Посети, — сказал Панька. — Я на этой реке живу от истока до устья.
— С большим удовольствием. — Васька потянулся пожать Паньке руку, но тут в ноги ему толкнулось что-то тяжелое и очень сильное.
Васька был сбит с ног. Была опрокинута бочка с селедкой. Мелкие селедочки текли из нее лунными бликами, сверкающими на воде.
В магазине толклись и воинственно хрюкали две свиньи. Панька и Антонин гнали их: Антонин новым яловым сапогом большого размера, Панька вожжами.
С десяток свиней тесным клином промчались по площади. Они угрожающе фыркали и храпели. Свиньи в магазине, услыхав этот атакующий зов, выскочили и, визжа, бросились вдогон.
Васька отрезвел.
— Свиньи, — сказал он, уныло оглядывая разгромленный магазин.
— Совхозные, — пояснил старик Антонин. — Помоги-ка, дитенок, бочку поднять.
Васька помог. Старик Антонин собирал селедку с пола в алюминиевую миску и сваливал ее в бочку.
«Глаза у селедки карие, — думал Васька. — Мятые у селедки глаза».
— Совхозные, говорю, свиньи. — Старик Антонин пытался ребром миски счистить налипшую на пол селедочную чешую. — Они, язви их, некормленые, озверели. Разбивают загородки. Двери в щепу разгрызли… Племенное-то стадо вывезли. А вот эти вот… обыкновенные. Лютее и зверя нет, чем свинья озверевшая.
— Они в болото бегут на берег, там ихний рай, — сказал Панька. — Ночью-то они вылезут — привыкли к кутам. Я же для этого и явился. Бабы ж. Где им одним! — Панька сжал бутылку так, что по ней побежала потная волна, отглотнул из горла и запел: — «Среди долины ровныя…»
— Ах бандиты! — Этот выкрик пресек басовое Панькино пение. — Ах негодяи! — В проеме дверей, в золотом сиянии короткого шелка, просвеченного солнцем, стояло нечто такое стройное… — Ворюги! У них еще рожи не отвиселись, а они уже опять пьют.
Закружилось вихрем по магазину крепдешиновое чудо с крепкими мгновенными кулаками.
— Ишь засели! Чему обрадовались! — Эти внезапные кулаки упали на Васькино стриженое темя не очень сильно, но очень зло. — А ты оборону тут занял, спаситель! — Пальцы разжались и снова собрались в кулак, взборонив очумевшую Васькину голову.
— Ты, Зойка, не лги! — Старик Антонин поднялся, выпрямился и вытянулся, привстав на цыпочки и дрожа от негодования. — Мы честь по чести тут выпивали. Деньги вон, на прилавке. А если насчет беспорядку, так это свиньи. Они взбесивши нынче.
Панька тоже поднялся. Схватил крепдешинового коршуна на руки, притиснул к груди и пропел нежно:
— Зоюшка-дурушка. Вымахала, красавица, а язык — помело помелом.
Он, наверное, стиснул ее так, что она хрустнула вся и обмякла. Панька поставил ее на ноги, поцеловал в шелковистую светлую маковку, потом поддал ей легонько, чтобы вновь оживилась. Зойка тут же оправила платье, тряхнула завивкой, подбежала к прилавку, в миг единый пересчитала деньги, пригруженные гирей, и затрещала на счетах.
— Колбасы сколько брали?
— Круг. Да хлеб считай. Да селедку.
— Вижу. Тут у вас денег… — она потрещала костяшками, — хватит еще и на кило колбасы.
— Ну и садись с нами и не кукуй, — сказал Панька. — За Россию мы выпиваем — за российских горемычных баб и девок.
— Это я куда дену? — Зойкины ресницы отяжелели. Она вытерла пучком денег покрасневший нос. — Кому я выручку сдам? Райпотребсоюз горит. Я на крышу вылезала, смотрела. Горит там все, на том берегу, и райпотребсоюз горит. А немцы ходят… И по берегу ходят, и в реку прудят, жеребцы.
Солдат Егоров съежился, угадав в Зойкиных словах укор, направленный непосредственно ему.
Старик Антонин вскочил вдруг, хлопнул себя по немощным ляжкам.
— Ты, Зойка, язви тебя, ты того — выручку и все бумаги схорони до победы. В сундучок их аль в банку сложи и в землю на огороде спрятай.
— А товар? — Зойка обвела полки рукой, и Васька Егоров, отступающий солдат-одиночка, спортсмен-разрядник, отметил красивую линию Зойкиных рук и ямочки возле локтей.
— Бабам раздай, — сказал Антонин. — Мы тебе бумагу составим, чтобы властям показала после победы. Мол, взято трудящими совхозными женщинами честь по чести на нужды детей и военных бедствий. И все подпишемся.
Егоров Васька отметил, что икры у Зойки плавные — невыпирающие, колени закругленные — оглаженные, щиколотки тонкие.
— Мудрецы плешивые, — сказала Зойка со вздохом. — Бабы у меня еще утром все накладные потребовали. — Она задумчиво пощелкала на счетах, положила на ящик перед мужчинами круг колбасы. — Это за ваши. — И еще бутылку взяла, вспыхнувшую густым рубином. — А это вам от меня. Мадера. И сама с вами выпью.
Выпив мадеры и ни разу не глянув на Егорова Ваську, а он брови сурово насупливал, как полагается воину, обдумывающему свои стратегии, Зойка попросила:
— Дядя Панкратий, спойте, пожалуйста.
— Чего тебе спеть, девушка? Хочешь, спою про любовь нескончаемую? И воин пускай послушает.
— Спойте. — Зойка покорно кивнула. Но, глянув на солдата, вспыхнула вдруг, неловко толкнула стакан и вскрикнула. Васька стакан удержал, не дал ему повалиться. Недопитая Зойкой мадера все же выплеснулась, залила им обоим пальцы.
— Любовь. Да еще нескончаемая. — Зойка хохотнула, слизывая с пальцев вино. — На кой мне леший она, любовь? Война, дядя Панкратий, война…
— Любовь войну укорачивает, — прошептал старик Антонин.
Панька встал. Глыбно навис над ящиком. Открыл кривой волосистый рот и запел.
Впоследствии, растратившись на болезни, тщеславие, чувство меры и чувство юмора, а также на обязательное собственное мнение, Василий Егоров иногда как бы прозревал вдруг: слышались ему в такие минуты звуки тогдашней Панькиной песни. Но тогда у него все внутри сморщилось — потекла слюна, как от кисло-зеленого.
Осуждать его не за что. Признать Панькину песню сразу могла только женщина или обладатель бесстрашного слуха, свободный витязь, пророк.
Васька Егоров запомнил только факт пения-крика, как он тогда это определил, боль, нежность, озноб и дикое — дословесное желание счастья.
Чтобы память не подсовывала чужие счета, ей нужны вера, надежда, любовь; нужны как пища, как ток электрический.
Алексеев Гога любил плевать в воду. Ветром далеко относило его дурацкие плевки. До воды они не долетали — мост был высок, ветер силен.
— Вера, Надежда, Любовь и мать их София! Задумайся, физкультурник, — говорил он. — У какого еще народа ты найдешь, чтобы Вера, Надежда, Любовь были рождены Мудростью? Он всегда был язычником, наш народ. Некоторые говорят — двоеверцем. Нет, физкультурник, только язычником. Он и Христа и всю его братию превратил в одного многоликого идола — вроде еловой шишки. Вера, Надежда, Любовь и мать их София — божество тоже единое — Истина. И когда уходит любовь, слабеет вера, угасает надежда, тогда истина превращается в анекдот, рассказав который, сам себя спрашиваешь, стыдясь, — было ли? Может, прежняя жизнь — лишь иллюзия, результат нарушенного обмена веществ и телефикации, авитаминоз? И не было никакого Паньки. Не было-о!..
Но было золотистое Зойкино колено. Было оно гладким, как шелк-атлас.