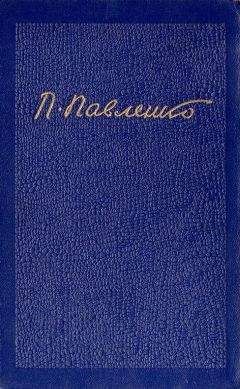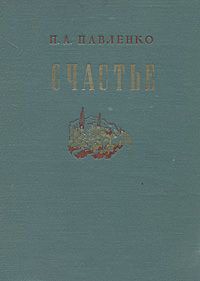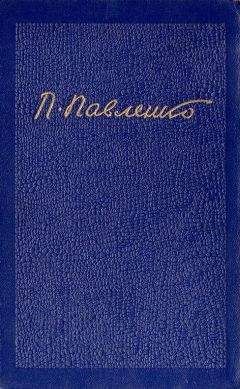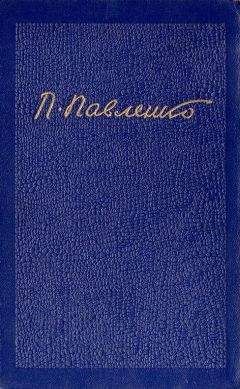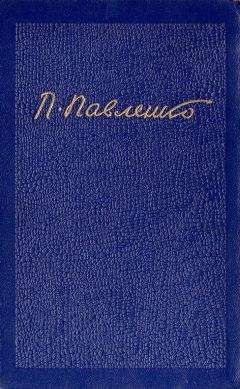Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 2
— А ты бы, слушай, попросила Корытова, — заискивающе сказала мать. — Записал бы он домик на тебя. А то придет такой вот безногий и выселит, что ты думаешь. И не знай тогда, что делать!
— Не выселит, — ответила Лена. — А и выселит, другую площадь дадут.
— А на что нам другую, — упрямилась мать. — Такой сад, милая, теперь не сразу найдешь — двадцать три дерева, одно к одному. А что хате ремонт нужен, так это неважно, год-два продержимся… Ты скажи Корытову, не стесняйся.
— Ладно, скажу, — ответила Лена. — Вы бы спали, мама, опять не выспитесь, а то в очередь-то вам скоро вставать…
Почти светало, когда она, отложив танечкину фуфайку, стала раздеваться, внимательно разглядывая по порядку все, что снимала с себя, и если находила ослабевшую пуговицу, дырочку или иной беспорядок, тут же быстро подшивала и, держа нитку с иголкой в зубах, продолжала раздеваться дальше.
Заштопав трусы и сорочку, на которой штопка шла уже по третьему разу, она воткнула иглу в обои, дунула на огонь и свернулась на сундуке, накрывшись одеялом.
И как только она успокоилась и стала посапывать, поднялась старуха. Она вставала грузно, что-то шепча, чем-то шурша, как раздраженная мышь, укрыла потеплей внучку и, взяв клетчатую сумку и две стеклянные банки, вышла наружу и там уже зевнула с такой неожиданной силой, что Лена и Танечка на одну секунду проснулись, прислушиваясь, что будет дальше.
Этой ночью, видно, ночи как не бывало. Переселенцы не засыпали. Они въезжали в новую жизнь. Те, кто уже успел получить жилье, кормили и убирали скотину, приводили в порядок дворы, а еще не получившие назойливо ходили следом за председателем. Хозяйки сидели на земле в очереди перед еще закрытой лавкой сельпо, рассказывая истории своего путешествия. Ребята поддерживали костры.
Воропаев спал у того крайнего костра, где он присел ночью, и старуха, мать Лены, идя в сельпо, сразу его узнала по описанию дочери.
Первые лучи солнца уже шмыгали по лицу Воропаева, ему снилось, что он спит под ласковое мурлыканье котят. Не хотелось просыпаться, чтоб не обмануть себя. Но его грубо пошевелили.
Незнакомая старуха стояла возле.
— Завтрак проспишь, командир, — строго сказала она. — Там ведь до девяти только. А сам Корытов тут.
Он никак не мог понять, кто она, эта старуха, но догадался, что она толкует о столовой райкома.
Наскоро заправив протез и взвалив на плечи рюкзак, он легко поднялся под взглядами женщин и ребятишек, будто ему было двадцать лет и это не он лечился когда-то и Кисловодске от болезни сердца, не он при Кирове леживал в жестоком астраханском тифу, не он брал штурмом Яссы, не его валил кашель туберкулеза.
За последнее время у него всего стало меньше, кроме годов, но сейчас он как раз и не чувствовал их оскорбительной тяжести. Бремя невзгод, которыми стали многие из его воспоминаний, тоже не беспокоило его в этот ранний ласково-теплый час, среди чужих, незнакомых людей, так же, как и он, начинающих новую жизнь.
Почти сейчас же он увидел Корытова, рассказывавшего переселенцам о здешних перспективах. Лицо секретаря не выразило особой радости, когда Воропаев приблизился и стал внимательно, с трудом сдерживая кашель, слушать его. Закончив о перспективах, Корытов начал было о реальных возможностях, но, точно вдруг что-то вспомнив, остановился и голосом скорее раздраженным, чем внимательным, сказал, полуглядя на Воропаева:
— Пошел бы ты к ним счетоводом, полковник. Комнату тебе дадут хоть сейчас, а заведешь семью, так со временем они и хату тебе поставят.
Колхозники оглянулись на Воропаева.
Председатель колхоза Стойко, тот самый высокий, статный парень с пустым левым рукавом, по привычке стал «смирно».
— Не обидим, товарищ полковник, — сдержанно и как-то очень твердо, сердечно сказал он.
— Подожду маленько, пригляжусь, — ответил Воропаев, не распространяясь. — Сводку не слышали? — спросил он.
Ему никто не ответил.
Корытов, не уговаривая, спокойно перешел к теме местных возможностей и, судя по тому старанию, с каким он останавливался на каждой мелочи, намерен был не скоро закончить.
Но слово «сводка», вырвавшееся у Воропаева, взбудоражило аудиторию. Народ зашептался и слушал Корытова не очень внимательно.
«Не с того начинает, — подумал Воропаев о Корытове. — Сводку, сводку, приказ Верховного, события на фронтах — вот что сейчас главное».
И, сам еще не зная зачем, скорее всего чтобы остаться наедине с собою, зашагал в горы.
Солнце просушивало ночные туманы, расстеленные, как мокрая пряжа, на южных склонах гор. Тут были всяческие туманы, всех типов и всех расцветок. Были крепкие, плотные, как войлок, были редкие, сквозные, как пряди, были похожие на подбитых белых гусей. Сырой пух облаков, в клочья растерзанных ветром где-то высоко над горами, стоял в воздухе, отделяя море от гор живою занавесью. А море лежало сине-лиловым, небрежно отлакированным подносом с неровной, как бы мятой поверхностью. На подносе что-то торчало — не то корабль, не то сгусток тени.
Потоки душистой хвои, тяжелые, медовые ручьи чебреца и полыни, струи студено пахнущей мяты и клевера бежали вниз, резвясь на утреннем солнце. И хотя время года совершенно исключало возможность цветения трав — их запахи были несомненны. Пусть это было воспоминанием, что из того! Запахи были.
Благодаря им Воропаев шел, почти не замечая подъема. Городишко остался позади. На развалинах кирпичного дома, окруженных обломками кое-где уцелевшего сада, среди кособоких глициний, напоминающих сейчас засохших змей, Воропаев присел позавтракать. По сути дела, он не ел со вчерашнего полудня. Хлеб у него сохранился еще из Москвы, а сардины были португальские, трофейные, финский нож с рукояткой из ноги дикой косули тоже был трофейный.
Город был виден от края до края, по обе стороны его на добрый десяток километров раскрылось побережье, сейчас хорошо освещенное боковым солнцем. Горы же все время были почему-то в тени, будто солнце не приставало к ним или обходило их стороной.
«Неужели тут не найдется домика в три комнатки?»
До войны на холмах между городом и горной грядой стояли здания санаториев, теперь они были разрушены, но маленькие коттеджи вокруг них, где жили врачи и сестры, кое-где сохранились. Беда лишь в том, что в этих домах нет света, их нечем отопить и они далеко от города.
Он стал от нечего делать присматриваться к стенам, его случайно приютившим.
Дом до своей гибели был, очевидно, небольшим — из четырех комнат с кухней («То, что мне надо!») и садиком впереди и позади дома. («Замечательный садик! Раз-два-три… двадцать шесть деревьев».) Водопроводный кран торчал во дворе, рядом с балконом, на столбах мотались обрывки проводов. Значит, было и электричество. Грейдерная дорога вздымалась вверх, почти касаясь участка. («Замечательное место! Дрова можно подвезти к самому дому!») Воропаев повернулся на камне, чтобы лучше осмотреть остатки здания. Не существовало ни крыши, ни оконных рам, ни дверей, ни полов. Все, что способно было гореть, сгорело, оставшееся не стоило ни гроша. Но участок в форме неправильного треугольника был превосходный. Остатки невысокого каменного забора пунктиром указывали витиеватые границы усадьбы. Слева — глубокий овраг. («При небольшой плотине была б своя вода».) Справа и перед домом — виноградники, слева — шиферные холмы.
Прутиком на земле Воропаев подсчитал приблизительное количество кирпичей, нужных для воссоздания дома.
Нечего было и мечтать. А между тем лучшего участка, он понимал, ему нигде не найти, если, конечно, этот свободен. Но, судя по всему, хозяин давно уже разделил судьбу своего дома.
Нет, участок первоклассный, что и говорить. Беда лишь в том, что это была чудесная и вместе с тем совершенно бесполезная находка. Хозяин-одиночка ни при каких условиях не справился бы с восстановлением этой усадьбы.
Воропаев стал присматриваться к колхозу, дома которого, окруженные садами и виноградниками, отлично были видны отсюда.
До войны к западу от колхоза, по берегам овражистой горной реки, тянулось два ряда домов, принадлежавших частным лицам.
Несколько тополей, ободранных, как молодые петухи, да железная ограда вокруг пожарища торчали на том же месте, где были когда-то дачи. Война пожирала хорошие, большие дома, оставив целыми все жалкие, отживающие, словно отныне человеку предлагалось довольствоваться лишь малым.
«В конце концов надо на чем-то остановиться».
И невольно мысли Воропаева вернулись к тому дому, у порога которого он сидел.
В сущности лучше этого дома ничего не могло быть. Ремонт удалось бы сделать, наверное, в кредит. Воропаев попробовал представить свою жизнь в этом доме.
Он представил, как привезет сюда сына, белобрысого, худенького северянина, как расставит на полках книги, плесневеющие в ящиках — чорт их возьми! — с зимы 1939 года, как они с сыном будут ходить отсюда к морю… Он улыбнулся, представив себя в пижаме, с удочкой в руках. Конечно, не ушедшим от жизни пенсионером намерен он был обосноваться здесь, — да ведь бездомному нужно прежде всего гнездо. Но тут одна нечаянная маленькая мысль опередила те главные мысли, которые одни занимали ого сейчас. Мысль эта была о молоке.