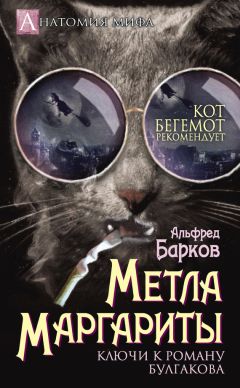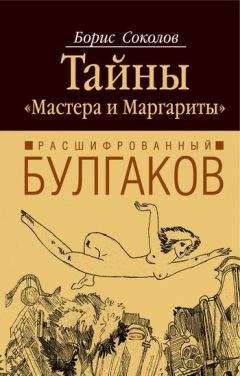Михаил Булгаков - «Мой бедный, бедный мастер…»
Из письма к Сталину (от 30 мая 1931 г.): «…я хвораю тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски… Причина моей болезни — многолетняя затравленность, а затем молчание…»
Подавляющее большинство написанных Булгаковым произведений было запрещено. Если в письме к К. С. Станиславскому (август 1931 г.) писатель еще возмущался: «Я вечно под угрозой запрещения» (Музей МХАТа. КС. № 7415), то в октябре 1937 года он с горечью сообщал Б. В. Асафьеву: «За семь последних лет я сделал 16 вещей разного жанра, и все они погибли. Такое положение невозможно, и в доме у нас полная бесперспективность и мрак» (РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 503).
Но более всего воздействовали на моральное состояние писателя обыски, слежки, доносы и допросы. Приведем лишь один пример. 13 января 1927 года осведомитель сообщал своим шефам в ОГПУ:
«По полученным сведениям, драматург Булгаков… на днях рассказывал известному писателю Смидовичу-Вересаеву следующее… Его вызвали в ОГПУ на Лубянку и, расспросив его о социальном происхождении, спросили, почему он не пишет о рабочих. Булгаков ответил, что он интеллигент и не знает их жизни. Затем его спросили подобным образом о крестьянах. Он ответил то же самое. Во все время разговора ему казалось, что сзади его спины кто-то вертится (вспомним ощущение Пилата после разговора с Афранием: «Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло… прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле…» — В. Л.), и у него было такое чувство, что его хотят застрелить. В заключение ему было заявлено, что если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы. „Когда я вышел из ГПУ, то видел, что за мной идут“.
Передавая этот разговор, писатель Смидович заявил: „Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю: "Ничего, так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придется прогуляться за темой на Лубянку"“.
Сведения точные. Получены от осведома» (Независимая газета. 1994. 28 сентября).
Колоссальное и всестороннее давление, разумеется, оказывало сильнейшее воздействие на морально-психологическое состояние писателя. Но он продолжал работать с еще большей энергией, используя при этом и полученные в ходе гонений интересные материалы. Преследования заставили Булгакова ускорить работу над романом. Это хорошо видно из его письма М. Горькому от 11 августа 1928 года (именно в это время Булгаков приступил к написанию основной части романа). В очередной раз он поднял вопрос о возвращении ему изъятых политическим сыском дневников и рукописей и просил Горького о помощи. При этом Булгаков затронул и интересующую нас тему о возможности творческой работы в условиях гонений и преследований. Цитируем:
«Рукописей моих, отобранных у меня и находящихся в ГПУ, я еще не получил… Есть только один человек, который их может взять оттуда,— это Вы. И я буду считать это незабываемым одолжением. Я знаю, что мне вряд ли придется еще разговаривать печатно с читателем. Дело это прекращается. И я не стремлюсь уже к этому.
Я не хочу.
Я не желаю.
Я желаю разговаривать наедине и сам с собой. Это занятие безвредно, и я никогда не помирюсь с мыслью, что право на него можно отнять (выделено мною.— В. Л.).
Пусть они Вам — лично Вам — передадут мои рукописи, а я их возьму из Ваших рук.
Я нарочно не уезжал из Москвы, все ждал возврата. Вижу — безнадежно. И именно теперь, когда состояние моего духа крайне дурно, я хотел бы перечитать мои записи за прежние годы.
Я надеюсь, что Вы извините за беспокойство: мне не к кому обратиться…» (Н. Н. П р и м о ч к и н а. Писатель и власть. М., 1998. С. 223).
Думаю, что именно травля писателя вызвала к жизни мощный творческий импульс, выразившийся в создании таких удивительных художественных образов, как Иешуа Га-Ноцри, Левий Матвей, Пилат, Каифа и, конечно, Воланд.
Не меньший протест вызывала у Булгакова и глумливая травля, которой подвергались «реакционные» и «консервативные» писатели и драматурги со стороны официальной прессы и сыскных учреждений. Пожалуй, никого не травили так изощренно и ритуально, как Булгакова.
Особенно его поразили допросы, учиненные ему в ГПУ. Именно после вызовов в это заведение у Булгакова зародилась, казалось бы, дикая мысль: «Москва ли это? В России ли я пребываю? Не стала ли „красная столица“ своеобразным Ершалаимом, отрекшимся от Бога и царя и избивающим своих лучших сыновей?..» А дальше? Дальше уже работала богатейшая фантазия писателя, соединявшая далекое прошлое с реальной действительностью. За несколько месяцев роман был написан, причем в двух редакциях. Конечно, это был еще не законченный продукт — эпопея последующих редакций,— это было остросюжетное повествование маэстро Воланда о «красной столице» и его «странные» рассказы о «странных» героях. В нем по-особому зазвучала новая для писателя тема — тема судьбы одаренной и честной личности в условиях лицемерия и тирании. Повторим: во время величайших событий истории Булгаков принял ответственейшее решение: он позволил себе сопоставить судьбу Величайшего Правдолюбца с судьбою талантливейшего писателя из «красного Ершалаима». А позволив себе такое, пошел и дальше — стал вносить коррективы в текст романа в соответствии со своими художественными замыслами.
Роман о дьяволе оказался настолько острым по своему содержанию (например, ополоумевший Иванушка, вбегая в «шалаш Грибоедова», вопит: «Бей жида-злодея!»), что писателю пришлось почти полностью уничтожить это произведение в марте 1930 года.
Сохранились отрывки (Булгаков оставил их как свидетельство того, что роман был написан), из которых ясно видно, что в ершалаимских главах отражены события, происходившие в «красной столице» («красном Ершалаиме»). К сожалению, не сохранился полностью текст главы «Заседание великого синедриона», где, очевидно, узнавались «герои» двадцатых годов. Но, как я полагаю, и из фрагментов видно, что в красном Ерашалиме определяющими силами были Пилат (Сталин) и Синедрион во главе с Каифой (сначала Троцкий, а затем его единомышленники). Существовали и одиночки-философы с пророческим даром (Иешуа Га-Ноцри с единственным приверженцем — Левием Матвеем), имевшие смелость публично высказывать свои убеждения и тем самым влиять на «общественное мнение» и в силу этого подвергавшиеся гонениям с двух сторон, особенно — со стороны Синедриона.
В романе о дьяволе автор явно питает симпатии к прокуратору Пилату (Сталину), черты которого улавливаются во многих эпизодах. Например, из следующей характеристики:
«Единственный вид шума толпы, который признавал Пилат, это крики: „Да здравствует император!“ Это был серьезный мужчина, уверяю вас»,— рассказывает Воланд о Пилате.
О некоторых иллюзиях писателя в отношении московского прокуратора (а может быть, о понимании его хитрейшей политики) свидетельствует и такое высказывание Пилата: «Слушай, Иешуа Га-Ноцри, ты, кажется, себя убил сегодня… Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другую вещь, покажи, как ты выберешься из петли, потому что, сколько бы я ни тянул тебя за ноги из нее — такого идиота,— я не сумею этого сделать, потому что объем моей власти ограничен. Ограничен, как все на свете… Ограничен!!»
Весьма любопытно, что, даже объявив Иешуа смертный приговор, Пилат желает остаться в глазах Праведника человеком, сделавшим все для его спасения (сравните с ситуацией, возникшей с Булгаковым в 1929 году после того, как было принято в январе постановление Политбюро ВКП(б) о запрещении пьесы «Бег», когда Сталин неоднократно давал понять, что он лично ничего не имеет против пьесы Булгакова, но на него давят агрессивные коммунисты и комсомольцы). Он посылает центуриона на Лысую Гору, чтобы прекратить мучения Иешуа.
«И в эту минуту центурион, ловко сбросив губку, молвил страстным шепотом:
— Славь великодушного игемона,— и нежно кольнул Иешуа в бок, куда-то под мышку левой стороны…
Иешуа же вымолвил, обвисая на растянутых сухожилиях:
— Спасибо, Пилат, я же говорил, что ты добр…»
И тут важно, на наш взгляд, сделать некоторое отступление и рассказать о складывавшихся отношениях (заочных) между писателем и набирающим с каждым днем силу генеральным секретарем.
Трудно точно определить время, когда у Булгакова стало формироваться отношение к Сталину как к своему покровителю (в личных беседах и письмах писатель избегал этой темы, но в его художественных произведениях она становится одной из основных), однако можно предположить, что произошло это в течение 1927—1928 годов, о чем свидетельствуют следующие факты.
Булгаков не мог не знать, что «путевку в жизнь» «Дням Турбиных» дал именно Сталин, которому пьеса очень нравилась (по количеству посещений вождем спектакль «Дни Турбиных» уступал только «Любови Яровой» К. А. Тренева). Не заканчивались арестом и вызовы Булгакова на допросы в ОГПУ (политический сыск не решался на это без санкции «сверху»). И, наконец, Сталин открыто выступил в защиту «Дней Турбиных» в 1927 и 1928 годах, о чем следует сказать особо.