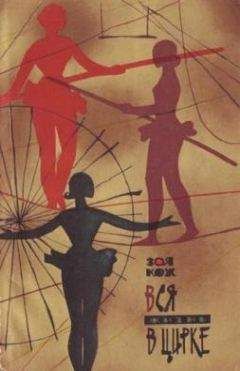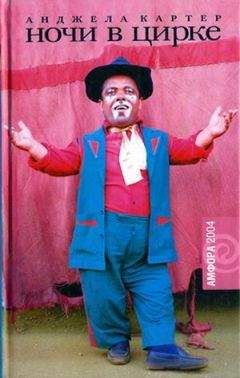Александр Бартэн - Под брезентовым небом
Время было дневное, шли репетиции, и цирк еще не был тем цирком, каким — во всем параде — вечером он предстает перед зрителями. Сейчас это был всего-навсего дом, населенный людьми, которые много работают и озабочены своей работой.
На закулисном дворе, огражденном штакетным заборчиком, сидел на корточках Владимир Арзуманян — старейший армянский цирковой артист, художественный руководитель коллектива. Арзуманян перетирал какие-то клинки, а дрессировщик Степан Исаакян, стоя перед ним (высокий, гибкий, красивая седина), горько жаловался:
— Не выдержит! Ни за что не выдержит!
Оторвавшись от своих клинков, подняв доброе морщинистое лицо, Арзуманян вздохнул сочувственно:
— Но что же делать? Сам понимаешь, пока главк не пришлет.
— Когда еще пришлет! — сердито прервал Исаакян. — Пока телеграммами отделываются: «Змеиное поголовье будет обеспечено». Где, когда? Разве я такую ждал телеграмму?
Из дальнейшего разговора я понял, что дрессировщик, по ходу своего аттракциона демонстрирующий борьбу с удавом, попал в тяжелое положение: несколько месяцев назад хмельной истопник в одном из цирков до того перекалил воздух, что две змеи не выдержали, околели от разрыва сердца. Остался один-единственный, последний удав.
— Просто беда! — продолжал сокрушаться Исаакян. — Дело не только в том, что обедняется работа.
Слишком большая нагрузка на змею. Два выступления в субботу, три в воскресенье. Не выдержит!
И он ушел в помещение, прилегающее к конюшне: там, плескаясь в бассейнах, блаженствовали бегемоты. Звери у Исаакяна были экзотические: бегемоты, антилопы, змеи, попугаи.
— Очень его понимаю!— сказал Арзуманян. — Им, в главке, кажется: ничего особенного, можно пока что обойтись и одной змеей. А человек убивается, артист убивается. Ему, артисту, лучше видно!
Я спросил Арзуманяна, что за клинки у него в руках.
— Это не клинки. Это называется шампура. Наш армянский шашлык приходилось пробовать? Никакой другой не может сравниться с нашим. Сочность не та, не тот аромат! Все с собой возим собственное: мангал, шампура, уголь древесный. Иначе нельзя! В коллективе такие события бывают — грешно не отметить!
В этот день, как вскоре я узнал, исполнилось шестнадцать лет. Ирине Шестуа: со своими партнерами, братьями Асатурян, она выступала с номером вольтижной акробатики — с прыжками на параллельных шестах.
О дне рождения Иры мне сообщил один из братьев, Рафаэль:
— Большая труженица. Сами видели, как работает. Хотелось бы в печати отметить.
Я обещал написать. Когда же прошел за кулисы, Асатурян опять попался мне навстречу и, сообщив, что Ире в этот день исполняется шестнадцать, снова обратился ко мне с просьбой написать в журнал. Я взглянул удивленно в ответ: что за притча, зачем заговаривать дважды об одном и том же? Однако, внимательно приглядевшись, понял свою ошибку: на этот раз со мной говорил не Рафаэль — Борис Асатурян. Не так-то легко было уловить различие между братьями-близнецами.
Разговор шел на этот раз у порога бегемотника, и я сказал Исаакяну, стоявшему в дверях:
— Шестнадцать лет! Всего шестнадцать! Позавидовать можно!
Дрессировщик согласился и тут же сообщил:
— А Мануку моему уже семнадцать. Покажи, Манук, какой ты красивый! — И так как из взбурлившей воды одновременно высунулись две огромные морды, представил мне и второго своего воспитанника: — Шаман.
Ребенок еще: четыре года. Однако на манеже старается ни в чем не отставать от старшего.
Я рассказал Исаакяну, что накануне какой-то дотошный зритель допытывался у меня: «Хотелось бы знать, какая съедобность у таких кабанчиков?»
— Съедобность?! — возмутился Исаакян. — Дикость какая! Это же умнейшие животные. Только с виду неповоротливые, а в смысле ума. Очень умные, самолюбивые, с чувством собственного достоинства!
Тут меня отвел в сторону музыкальный эксцентрик Константин Бирюков — человек очень деятельный, непременный участник всех общественных и производственных начинаний в цирке.
— Тарификационная комиссия собирается нынче, — озабоченно сообщил Бирюков. — Ставим вопрос о перетарификации Лени Енгибарова. Молодой, перспективный коверный. Вполне заслуживает прибавку. Я тут характеристику набросал. Поглядите, как она в отношении литературной складности.
Направясь в зал, чтобы там без помех прочесть характеристику, я столкнулся у форганга с Ириной Шестуа. Мы оба с Бирюковым поздравили девушку, и она, улыбнувшись жгуче черными глазами, наклонила голову в ответ и прошла дальше, и ее деревянные сандалии весело простучали до гардеробной.
— Подумать только, какой успела заработать стаж! — с уважением сказал Бирюков. — Помню, как начинала: в икарийских играх, в труппе Плинера. Четырехлетней малышкой. Сирота: отец — тоже был цирковым артистом — погиб в Отечественную войну. Совсем была крохой. А теперь. Еще восемь лет, и полный стаж для пенсии!
Мысль о пенсионных делах в приложении к юной Ирине Шестуа показалась мне такой забавной, что я рассмеялся.
— Между прочим, ничего смешного, — обиженно заметил Бирюков. — Куда куражнее работается артисту, если спокоен за будущее!
И тут я снова повстречался со Степаном Исаакяном. Отрепетировав с утра пораньше, теперь он сидел в партере, наблюдая работу товарищей.
Репетировала Елена Аванесова. Над ее трапецией, летящей по кругу, сидел орел, раскрывший огромные крылья. Казалось, он гордился своим соучастием в работе воздушной гимнастки. Затем, когда трапеция снизилась, спрыгнул на опилки и очень деловито, самостоятельно направился к себе в клетку. Хуже обстояло дело со вторым орлом. Этот был еще новичком, в воздухе его поташнивало, и с какой бы нежностью ни повторяла артистка: «Ай, мой орлик! Ай, моя манюнечка!» — быстрое кружение орлу не нравилось, и он сидел нахохленный, с опущенными крыльями.
В проходе у барьера появилась жена Исаакяна.
— Ассистентка моя, — сказал он, ласково кивнув жене. — Недаром в песне одной поется: судьба играет человеком. Жена моя собиралась филологом стать. Да ведь и я. Трижды раненный под Керчью, попал на излечение в Москву. Потом, демобилизовавшись, поступил на юридический факультет. До пятого курса дошел, и вдруг все поломалось: в одном из столичных садов увидел аттракцион — мотогонки по вертикальной стене. До того увлекся этим аттракционом, что вскоре сам стал гонщиком. Жене ни слова: зачем нервировать. Прихожу однажды домой — жена кидается ко мне, обнимает со слезами: «Обещаю тебя никогда не расстраивать!» Надо же случиться такому — увидала случайно мой аттракцион. Ну, а затем, когда главк предложил мне заняться бегемотами.
— Как же это случилось?
— Опять-таки неожиданно. Я с детства любил рисовать. В Москве стал прирабатывать цирковыми плакатами. Вот меня и приметили в главке. Сперва я был озадачен: зачем мне бегемоты? Думал, думал и просто так, из любопытства, что ли, в библиотеку зашел: посмотреть литературу о дрессировке. И тут-то убедился — нет никакой литературы о том, как дрессировать бегемотов. Вот тогда-то я и согласился. Понимаете? Это ведь самое интересное, если ты первый, если до тебя никто не пробовал!
Репетиции подошли к концу. Артисты покинули зал. Мы остались вдвоем — манеж и я. Истоптанный, изрытый, он был сейчас непригляден, и мне показалось, что я различаю глухо ропщущий голос: «Устал я! Моченьки нет, до чего устал!»
Так жаловался манеж, но лишь до той минуты, когда, вооруженные метлами и граблями, вышли к нему дежурные униформисты. Принялись наводить порядок. Привезли на тачке, расстелили вечерний ковер. И что же? Разом смолкли сетования манежа: прибранный и принаряженный, снова обрел он гордую стать.
Собрался и я покинуть зал. Но остановился, увидев появившегося возле манежа Леонида Енгибарова.
До приезда в Воронеж я не знал этого молодого коверного. А тут увидел и сразу полюбил. Интересно, свежо работал Енгибаров. Одинаково уверенно владея акробатикой, эквилибром, жонглированием и многими другими цирковыми жанрами, привлекал он даже не этой универсальностью. И не только превосходной выразительностью каждого жеста, движения. В репризах Енгибарова неизменно присутствовал второй, глубинный план, всегда читалась острая мысль, причудливо запечатленное чувство.
Так и сейчас. В предзакатном солнечном луче, золотисто прорезавшем сумрак над манежем, Енгибаров заметил тополиную пушинку. Она и вилась, и кружилась, и коверному захотелось ею овладеть. Вскочив на барьер, он протянул к ней руки. Не тут-то было. Легко увернувшись, пушинка покинула луч. Но все равно начало игре было положено. Теперь не пушинка — бабочка трепетала в сомкнутых ладонях Енгибарова. Вот, приоткрыв осторожно ладони, он стал любоваться пестрой ее окраской. Вот раскрыл, распахнул широко руки. Уже не бабочка — острокрылая птица вырвалась на волю. Круг за кругом, все выше летела она, и казалось, что купол над манежем исчез, и в широко раскрытых глазах коверного отражается поднебесье, и он видит, как ласточка — конечно же, это была ласточка — исчезает в синеве.