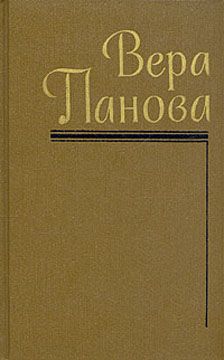Владимир Христофоров - Пленник стойбища Оемпак
— Вы мужчина, Устин Анфимович. А женщине иной раз, знаете, как ласка нужна…
— От слабости это. Ну да женщина — вещество мягкое, чуть дал слабинку… — Верхососов посмотрел на меня и почему-то смешался. — Да нет, что это я говорю. Я говорю, что душевность должна обоюдно содержаться в теплоте, в лелеянности. — Он махнул с досадой рукой. — Да что это я? Какую-то чушь несу. Лучше я вам поиграю.
Он достал свой баян и заиграл мелодию, от которой у всех защипало в горле.
— Душевный человек, — сказала мне на ухо Елена Станиславовна и украдкой смахнула слезу. — Жалость такая у меня вдруг.
Гостье постелили на егерской кровати. Сам хозяин с Драгомерецким расположились на полу, а мы с Луноходом устроились в коридоре на шкурье. Было жарко, и дверь в избе осталась приоткрытой.
— Я, Лена, человек открытый, — доносился тихий вразумительный голос Верхососова. — Обскажу без утайки всю свою судьбу, а ты откройся мне. Чтоб как на духу!
— Какой вы, однако, Устин Анфимович! Легко ли? Всяко бывало. А вот с годами жизнь стала пуста, как раковина. Не знаю и сама, как это случилось.
— Нужно стремиться, чтобы жизнь была простой, как свет дня. В этом весь смысл. Я вот живу здесь простой красивой жизнью. Солнце — мой календарь, земля — кормилица, небо — мое дыхание, воздух — моя вода…
Я удивился, потому что не предполагал в Устиныче дара поэтического воображения.
— Но ведь и так жить нельзя, Устин Анфимович. — Кровать скрипнула. — Один словно перст.
— Так теперь нас двое, как я понимаю. Или нет?
— А смогу ли я здесь жить, Устин? Посредине-то болота. С тоски оглохнешь.
— Да это не болото, это дожди.
— Все равно. Случись что — и врача не вызовешь. Люди мы немолодые…
— Командование обещало рацию поставить.
Ответом была тишина.
— Ну да утро вечера мудренее, — сказала через некоторое время, зевая, Елена Станиславовна.
— Конечно, конечно. Отдохнете пару деньков, а там и за дела.
— За какие дела?
— По дому все, по дому. Бельишко состирнуть, обед сготовить, летом — ягодья, грибы, рыбка. Зимой пушнину начнем обрабатывать.
Елена Станиславовна опять долго молчала, потом вздохнула:
— Я вижу, вы человек строгих правил, мастеровой. Жизнь вас помыкала, но не сломила. Вот вам мое слово: айдате ко мне в Майкоп. Хоть по-человечески жить будете. Возьмите отпуск поначалу, осмотритесь. Да и я поближе вас узнаю… А мне там тоже мужская рука нужна: то огород вскопать, то гвоздь где забить — да мало ли дел…
Луноход шепнул мне с ухмылкой:
— Слышь, баба она не промах. «Мужская рука»… Нашего Устиныча голыми руками не возьмешь. Интересно, кто кого пересилит?
— Сейчас не могу, Лена. Только на ноги здесь встал, только дело начал. Для собственной самостоятельности необходимо мне еще год-два пожить, собрать деньжат, а уж тогда кумекать о новом направлении жизни.
— Зачем вам деньги? Пенсия есть — и хватит.
— Есть у меня заветная мечта, Лена, — купить часы стоячие, со звоном. Чтобы каждые полчаса таким, прозрачным голоском — тлинь-тлинь-тили, тлинь-тлинь-тили… А? И чтоб маятник позолоченный, с блюдце.
— Странный вы человек. Есть у меня часы, хоть и не стоячие, а со звоном…
В том же духе они еще немного поговорили и утихли под хмельной храп Драгомерецкого.
Елена Станиславовна все утро до самого обеда сиротливо просидела на поваленном бревне, что-то вычерчивая прутиком возле ног.
Луноход выклянчил у Верхососова рома и пытался выяснить подробности первой брачной ночи. Устиныч ответил зло, с раздражением, но откровенно:
— Я мужик неторопливый. Другой бы, сломя голову, ухватился за подол, да не отпустил бы до самого Майкопа. Шутка ли — сразу и дом, и сад, и баба… Такого случая больше не будет. А я подожду, когда она свои слова в третий раз повторит.
Он закурил и задумался, потом с недовольным видом вздохнул:
— Вообще-то она сильно в годах. Портрет-то, который присланный, не нынешний…
— Молчи, Устиныч. Сам бы на себя посмотрел, — не выдержал я.
— Так-то оно так, да помоложе — оно затейнее…
Елена Станиславовна вернулась в райцентр с нами, как-то неопределенно пообещав Верхососову, что надо подумать, взвесить все.
Устин Верхососов был ошарашен ее отъездом, замкнулся, мрачно сдвинул брови. Видно, надеялся, чудак, что она сразу и останется у него насовсем.
В райцентре Елена Станиславовна подарила мне и Луноходу по штопору в виде большого ключа, поблагодарила за все. Я спросил ее, когда опять поедем к Верхососову.
— Большое, большое спасибо за хлопоты. Вы настоящие герои! Но к Устину Анфимовичу я не поеду. Он ведь совсем отвык от людей, и я ему скоро стала бы в тягость. Передайте, пусть в отпуск ко мне приезжает. А там будет видно.
Луноход мрачно сплюнул:
— Выходит, наклевка вышла, небольшой, так сказать, прокольчик?
— Он ведь ждать будет, — сказал я. — Душа у него ранимая, обнаженная.
Фотография невесты на столе Верхососова исчезла. И серый профиль воина на открытке, казалось, стал еще жестче и суровее. Что-то изменилось в лице Устиныча: то ли складки вокруг рта стали глубже от сбритых усов, то ли в глазах появилась тоска, отрешенность.
Уже давно, с того дня, когда он поселился на озере Плачущей Гагары, все словно бы проходило мимо его сознания. Мир ограничился замкнутым пространством тундры, в котором кроме него из людей были я да Луноход. Однажды он заметил, что перестал тосковать по дождю, когда стояла жара, а в пурговые дни не особенно ждал затишья. Не вздрагивало сердце, когда мимо окон ковылял выводок утят…
Он привык ко всему этому, как привыкают горожане к звону трамвая.
Окончательно вывела его из равновесия затеянная было история с женитьбой. Как будто натянутая струна лопнула вдруг в душе Верхососова, но продолжала безысходно, тоскливо звенеть.
Однажды Луноход брякнул за чаем:
— Чего, Устиныч, жалеешь привозного варенья?
— Это какого такого варенья? — У Верхососова даже побелели скулы.
— Которое она привезла.
— Вот туда! — Верхососов ткнул пальцем впечь. — Туда же, куда и ее поганый портрет. Я сразу разглядел, что она за птица, сразу. — Он рубанул ребром ладони по столу и уставился на нас. — Сволота она, вот кто! На экскурсию, видите ли, приехала. Поглядеть на Чукотку дай рассказать потом подружкам своим, как бесплатно туда слетала. «Приезжайте, Устин Анфимович, поживете, сад у меня, яблочки, малина…» Тьфу! Побежал, сейчас. — Верхососов свел свои кустистые брови в одну линию. На всей его фигуре лежала печать обнаженной тоски, злобы и полного одиночества.
Даже мы с Луноходом не посмели, как обычно, свести разговор на очередную хохму. Мы будто осознали глубину этой тоски, и я подумал, что по-прежнему на смену этой зиме придет весна, что в райцентр приедут новые люди с материка, кто-то поженится, а кто-то разойдется. Только ничего не изменится в жизни егеря Верхососова. Из года в год он будет помаленьку стареть и дичать, может быть, скоро так и умрет однажды и закоченеет в своей остывшей избе.
— Там мне письма-то нет? — впервые спросил как-то Верхососов.
— Нету, Устиныч. Да и кто тебе напишет? Разве из дому?
— Из дому не будет. Это ломоть отрезанный. Вот что, Свистофорыч, на тебе тетрадь, на карандаш. Надумал я Елене отписать про свой отпуск отдыхающий. Заеду, напиши, мимоходом…
Я помусолил химический карандаш и грустно поглядел на линованный тетрадный лист.
Верхососов ткнул пальцем в лист бумаги:
— Пиши, что про город Майкоп слыхал много знатного. А мое озеро Плачущей Гагары обмелело. — Тут он схватил меня за руку. — Это зачеркни. А как-нибудь так заверни, что, мол, мало вы у нас отгостили. Лето у нас сейчас, ягоды…
Верхососов взял лист, посмотрел на него, далеко отстранив от себя:
— Все не так, Свистофорыч. Дай-ка карандаш. — Он достал очки, обстругал карандаш и довольно рьяно застрочил по листу. — Подумаешь, мастер-технолог с завода. Я, брат, тоже не лыком шит. И грамоте моей еще кой-кому учиться да учиться…
Я оторопело смотрел, как красиво и уверенно выстраивались в ряд крупные буквы под рукой моего «неграмотного» егеря. Как знать, может быть, впервые за долгие месяцы одиночества на озере Плачущей Гагары Устин Анфимович вдруг снова почувствовал былую напряженность восприятия окружающего большого мира.
Накануне случилось событие, на первый взгляд малозначащее, даже несколько трагикомическое. Однако на Верхососова оно произвело настолько сильное впечатление, что еще более укрепило в нем мысль о необходимости переустройства своей жизни. А случилось вот что. Проверяя как-то песцовые капканы, Устин Анфимович буквально наткнулся на блестящий продолговатый предмет величиной с коробку из-под домино. Одиночество приучило Верхососова к осторожности. Обойдя дважды странный предмет, он подцепил его лыжной палкой, перевернул. Предмет оказался легким, он состоял из двух дюралевых пластин, из-под которых выглядывали зубчатые колесики, пружина и стрелка — точь-в-точь вынутый из старинных часов-«ходиков» механизм. Егерь посмотрел в предвечернее небо. Предмет мог свалиться лишь оттуда. «И тут покоя нет тундре», — проворчал он, но находку взял. Дома сунул оттаять на печь и забыл.