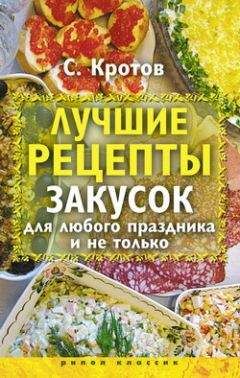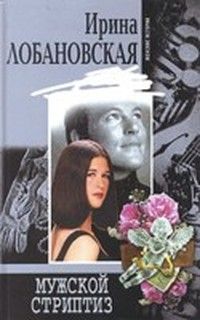Юозас Пожера - Рыбы не знают своих детей
В те дни и дедушка Антон, и Мария с Афанасием, и Ольга со своим Степаном почти не покидали стойбища, все теснились вокруг печки в чуме у матушки Марии да пускали по кругу стаканчик. А работы было выше головы. Надо было заканчивать ставить корраль для оленей. Это такой загон длиной чуть не в двадцать километров. Каждый день на коррале мы работали вчетвером: братья Янгиты Игорь с Кириллом, брат слепого Виктора Валентин да я. Топорами рубили молодые деревца, отсекали им макушки и укладывали стволы один на другой, вжимая их между растущими деревьями. Корраль надо было закончить к отелу оленей, согнать туда важенок, чтобы после отела они с новорожденными оленятами оставались на месте, а тут и присматривать за ними легче, и вести счет приплоду сподручнее. Фельдшер Василий тоже трудился до седьмого пота. Заболевшим оленям через специальную трубку вливал в горло раствор норсульфазола, вкатывал в круп уколы антибиотиков — и гуляй! Самым трудным делом для него было разыскать в тайге и выловить заболевших животных — олени эти были полудикими и человека близко не подпускали. Приходилось арканить их длинным кожаным ремнем с петлей — маутом. Лучше всех арканили оленей Афанасий и Степан, но их самих в те дни приходилось арканом оттаскивать от бутылки. Вот тогда-то матушка Мария и показала свою власть и силу. Она припрятала остатки спиртного и объявила, что не выдаст ни капли, пока мужчины не закончат важнейшие работы. Она не уступила даже старику Антону, который сердито ворчал, укоряя ее в непослушании старшим, неуважении к его сединам и прочем. Не подействовали ни просьбы, ни угрозы. Матушка Мария была непреклонна, и мужчинам не оставалось ничего другого, как взять топоры и направиться к корралю. Старик Антон и тот ездил верхом по тайге, высматривая больных оленей. В те дни мы трудились, не глядя на часы. Янгита прямо у строящегося корраля готовила нам обед и сзывала всех стуком половника по крышке кастрюли, В чум я возвращался словно в дурмане. Стоило закрыть глаза, как сразу представал передо мной загон, валились подрубленные деревья, в ушах настырно отдавались стук и грохот топоров, руки и ноги были точно слеплены из тяжелой сырой глины. В тайге Янгита готовила нам легкую пищу, а возвращаясь в стойбище, мы обедали в чуме у матушки Марии, где она с Ольгой стряпала, точно на целую роту солдат. Тем не менее мужчины справлялись с обедом не спеша, перебрасываясь словом, а потом, вздыхая и отдуваясь, долго прихлебывали огненный и черный, как деготь, чай. Но однажды, придя после работы в стойбище, мы обнаружили там в некотором роде военное положение. Матушка Мария взволнованно что-то доказывала Ольге, а та, поджав под себя скрещенные ноги, сидела на застланной шкурами нарте, словно снарядившись в путь. Однако в руках у нее был не шест каюра — погонщика оленей, а старенькая мелкокалиберная винтовка. На речи матушки Марии она отвечала упрямым поматыванием головы. Мне все было ясно и без переводчика. У Ольгиных ног я увидел чуть не полностью опорожненную бутылку водки. Видимо, набрела на материнский тайник и не устояла против соблазна. Ольга была пьяна. Она то и дело поднимала ружье, прикладывала к плечу и долго целилась в дерево, ствол качался туда-сюда, пока наконец раздавался выстрел, а свояченица моя выкидывала пустую гильзу и тут же заряжала ружье снова. Она не желала вступать ни в какие разговоры и никого к себе не подпускала. Степан, однако, зашел с тыла, выждал, пока она выстрелит, затем в несколько прыжков подскочил, вывернул ее из нарты в раскисший, истоптанный снег, вырвал из рук ружье, а жену принялся умывать мокрым снегом. Он долго возился с ней, пока Ольга притихла. Похоже было, что ледяная баня ее отрезвила, так как Степан безжалостно сыпал ей снег за пазуху, за шиворот, в лицо. Но как только муж отпустил ее, Ольга шагнула прямо к собакам, в мгновение ока перерезала постромки у двух из них, отпуская на свободу. Мало того. Она еще и пнула их ногой, чтобы припугнуть. Собаки бросились в тайгу. В стойбище поднялся такой переполох, что мне стало страшно за Ольгу — как бы мужчины не растерзали ее. Ведь в пору отела оленей никто не смеет их тревожить, а отпущенная на волю собака может разогнать по тайге весь табун — ищи-свищи, за целый месяц не отыщешь, а некоторых оленей и вовсе недосчитаешься, особенно молодняка. Ольгин поступок расценивался как самое настоящее святотатство. Степан схватил ее и отволок в свой чум. Уж не знаю, что он там с ней сделал, но Ольга не вышла. Видимо, связал Степан руки-ноги своей законной, а сам побежал разыскивать удравших собак. К счастью, они не успели далеко отбежать, к тому же были голодны. Степан постучал по собачьей миске, и умные лайки живенько прискакали обратно. Таким образом, с собаками все уладилось. А мужчины в тот вечер снова атаковали матушку Марию, и та, достав из тайников свои припасы водки, вынесла их в чум. Было принято соломоново решение: во избежание дальнейших неприятностей уничтожить все бутылки до единой. Пусть сегодняшний инцидент послужит уроком. И — спокойствия ради. Так мы и сделали: все до последней капли выпили. Правда, назавтра не только у Ольги, но и у всех остальных голова прямо-таки разламывалась, но мы молча терпели. Зато потом началась спокойная жизнь. А мои заветные пять бутылок спирта я унес в тайгу и спрятал под выворотиной, хотя Янгита и не одобряла этого. Как бы то ни было, а она — дитя своего народа, и трудно ей было примириться с мыслью, что такое добро зарывают в землю где-то в тайге. Лучше уж людям отдать…
Незаходящее солнце прямо-таки разъедало, выгрызало снег, мутные ручейки стекали по склонам холмов, речка поднялась, и начался ледоход, какого я в жизни своей не видывал. Бешеное течение несло льдины на головокружительной скорости, крутило их, переворачивало, ставило торчком, оттирало к берегу, нагромождая горы льда, тащило за собой вырванные с корнем могучие деревья, коряги, катило донные камни, и они гремели, как отдаленный гром. Теперь все мужчины уходили в тайгу к загонам, а меня оставляли в стойбище налаживать сети для лова рыбы. Бригада получила три новенькие сети, а мне надо было смастерить для них поплавки. Я находил в тайге березу, вырезал здоровенный кус бересты, приносил в стойбище, настригал полосками, кидал в ведро с кипятком, и береста сама сворачивалась длинными трубочками. Потом я привязывал эти поплавки к сетям оленьими жилами. Мне нравилось оставаться в стойбище с матушкой Марией. Никогда не видел, чтобы она сидела без работы. С неизменной папиросой в зубах она то стирала, то шила меховую одежду, то готовила пищу, пекла хлеб, выносила из чума постель и проветривала ее, мыла посуду, которую постоянно хранила в чемодане, словно в любой миг готовая тронуться в путь. А в те редкие минуты, когда она позволяла себе отдохнуть, матушка Мария острым как бритва ножом перерезала папиросу вдоль, бумажный мундштук выбрасывала, а из тонкой бумаги сворачивала «козью ножку». Она утверждала, что так оно вкуснее… Погода то и дело менялась. Изредка ветер приносил снежную тучу, но все чаще накрапывал дождик. Я забирался в чум, а матушка смеялась и говорила: «Да ты погляди, от дождика не больно». И в доказательство стягивала с головы платок, сидела простоволосая и пыхтела своей папиросой. Матушка Мария была со мной в заговоре. Дело в том, что в первые дни я попытался было сесть на оленя верхом да и поскакать, но не тут-то было — шлепнулся наземь. Олень — это вам не конь, его шкура под всадником так сильно ерзает, что усидеть способен не всякий, нужен особый навык. Вот матушка Мария, когда мы остаемся одни, и учит меня этому искусству. Когда я соскальзываю вниз, не в силах удержаться на оленьем хребте, она хохочет — до того звонко и от души, как умеют одни только дети. Она вообще сильно благоволит ко мне. Сшила мне сумку из шкур с оленьих голов, потом вынесла из чума мешочек с бисером, и они с Ольгой долго подбирали бусинки, глядя в мои глаза. Выбрали светло-голубые и расшили ими мою сумку. В те дни она заботилась больше всего обо мне. Соорудила из жердочек крошечный чумик, развесила в нем множество камусов — шкурок, содранных с оленьих ног, обложила чумик выделанными оленьими шкурами, а внутри развела дымовой костер. Шкуры прокоптятся, размякнут, и матушка Мария сошьет мне из них унты и теплую парку, которая не боится воды, а если и намокнет, то быстро высохнет. Как-то в поисках подходящей березы я удалился от стойбища дальше обычного. Стояла жара, настоящий летний день, солнце жгло так, что вся тайга курилась, похоже было, что дышит согретая земля. Я шел по заболоченному горному склону, брел по мшистым кочкам, на которых россыпями алела прошлогодняя клюква. Иногда наклонялся, загребал горсть ягод, отправлял их в рот, чтобы утолить жажду. Вдруг услышал какой-то шум, треск. «Олень, — подумал я, — отбился от стада…» Оглянулся и обомлел: медведь! Летит прямо на меня, загребает всеми четырьмя ногами. Я так и окаменел от растерянности и страха, стою на кочке, не шелохнусь, и вовсе позабыл, что рядом топор кинул. Ружья при мне не было, да и не подумал я в тот миг о ружье, в голове мелькнула лишь четкая мысль: «Вот и все!» Мне казалось, зверь издалека приметил меня и спешит полакомиться. На самом же деле он увидел меня в последний миг, когда нас разделяло едва несколько шагов. Он всеми четырьмя лапами уперся в мох и чуть качнулся, а потом вдруг резко поднялся на задние лапы и широко разинул пасть. Я отчетливо видел его маленькие глазки, высунутый язык, желтоватые клыки, даже ощутил идущий из его нутра какой-то прелый запах — не то вялой, не то растертой травы. Я стоял не шевелясь, не моргая глядел в отверстую пасть, ожидая, когда он сделает роковой шаг. Но и зверь застыл, не в силах сойти с места. Казалось, он от неожиданности не может даже рыкнуть — челюсть отвисла, пар валит, глаза таращатся, словно хищник желает убедиться, правда ли перед ним человек. Так мы с ним довольно долго смотрели друг на друга, потом он мотнул головой, опустился на четыре лапы и медленно, то и дело оглядываясь на меня, заковылял прочь. Лишь отойдя шагов на двадцать — тридцать, зверь негромко и коротко рявкнул — так удивленный человек произносит: «гм!» Опамятовался и я. Сразу схватил с кочки свой топор, нарубил сухостоя и развел костер, поминутно поглядывая в ту сторону, где скрылся медведь. Потом выкурил по меньшей мере полпачки сигарет, прикуривая одну от другой, дивясь, что почему-то не проходит дрожь в руках. И в стойбище я возвращался почти пятясь всю дорогу. А когда рассказал все Марии, матушка радостно улыбнулась и сказала: «Это очень хорошо, что дедушка тебя за своего признал». Эвенки, оказывается, считают медведей своими предками. Мои переживания ее вовсе не интересовали, она почти не слушала, что я рассказывал, а знай твердила: «Счастье, что дедушка своим признал». Когда обо всем узнали возвратившиеся из тайги мужчины, все хвалили меня за выдержку: правильно, что неподвижно стоял перед могучим зверем, не кричал и не бросился бежать — тогда бы он точно растоптал меня, как гриб: в эту пору медведи спариваются и бывают как никогда злыми, свирепыми. Янгита была вне себя от счастья. Она все гладила мои руки и что-то говорила своим по-эвенкийски. Можно было не сомневаться, что она хвалила меня: все одобрительно кивали головами. Потом, когда мы остались одни, Янгита сказала мне, что такая встреча с медведем сулит племени удачу и счастье. Вот ведь как… В тот день вода в реке поднялась так высоко, что почти дошла до чумов. Матушка Мария сказала, что пора подниматься в гору, если мы не хотим ночью уплыть в факторию. Наш с Янгитой чум стоял повыше, и ему беда не грозила, а все остальные дружно взялись за работу. Жилища вскоре были перенесены на новое место, а там, где прежде стояли чумы, осталась лишь кучка еловых веток и всякий мусор: пустые жестянки, рваные сумки, худые резиновые сапоги, расчески с выломанными зубьями, использованные батарейки от транзисторов и фонариков, дырявые кастрюли, обрывки целлофана — словом, всякий хлам, который незаметно скапливался в углах и щелях чумов. Под еловыми ветками, подальше от очага, еще сохранилась полоска смерзшегося снега, которая, точно волшебный или заколдованный круг, опоясывала каждый чум… Когда на новом месте над каждым чумом снова взвился дымок, матушка Мария сказала, что сегодня пора сменить одежду, то есть снять зимнюю и надеть летнюю — ведь уже распускается лиственница. Такой у эвенков порядок, заведенный исстари. Потом она и дед Антон взяли по дубинке, обошли несколько раз вокруг толстоствольной лиственницы, ударяя по ней и что-то выкрикивая. Возможно, это они так пели. Янгита пояснила, что так они просят у духов, чтобы возрождающаяся природа была к ним милостива и щедра, чтобы в тайге созрело много шишек, ягод и грибов, чтобы плодились белки и соболи, чтобы олени были здоровы и табун их увеличился вдвое, чтобы у волков и росомах повыпадали все зубы да пообломались все когти. А потом Янгита тем же певучим голосом пропела мне на ухо: неужели у моего супруга такое скупое сердце, что и в столь важный священный день он не достанет из-под мха ни одной малюсенькой бутылочки спирта, неужели ему не хочется отблагодарить и дедушку дедушек — старенького мишку, который с первого взгляда признал его своим? Она говорила обо мне в третьем лице, трудно было разобрать, просьба это или только игра. Так или иначе, а я расслышал в этих словах искреннее желание устроить праздник для всей родни. Взял ее за руку, отвел в тайгу, к той самой выворотине, под которой спрятал несчастные бутылки с зельем. Извлекал их из-под мха, выстраивал в шеренгу по одному, как солдатиков, а потом без тени юмора сказал, что она сама обязана их разбить. Жена вытаращила глаза, но даже слышать не желала о том, чтобы погубить запас. Я сам подал ей первую бутылку. Она сжала горлышко бутылки и растерянно лопотала, что был грех, действительно сочла меня скупердяем, жадиной, который сам спрятал спирт, сам и попивает его потихоньку, украдкой. Именно этого я с ее стороны и опасался. Поэтому и показал ей тайник, и велел разбить бутылки. Конечно, можно было и не разбивать — отнести к общему костру. Но я боялся, что навсегда лишусь доверия родичей, и никогда они не станут считать меня своим — ведь мне надлежало в первый же день все, до последней капли отдать матушке Марии, в ее руки. А сейчас уже поздно. Если и отнесу, как мне убедить их, что больше у меня в тайге ничего не припрятано? Все это я растолковал Янгите и велел немедленно разбить все бутылки. Она долго не решалась, а потом все же собралась с духом и все до единой бутылки раскокала о кряжистый ствол поваленного дерева, сказав при этом: «Увидели бы мои, убили бы!» Слава богу, никто не видел, никто не учуял. Осколки мы сунули обратно под выворотину, прикрыли мхом, чтобы не осталось и следа, а потом Янгита вдруг разрыдалась и сквозь слезы обругала себя за то, что посчитала меня жадиной. Это было единственное недоразумение за все годы нашей совместной жизни. Так-то. В конце лета, когда вертолет доставил нам мешки с мукой, сахаром, солью и прочие необходимые вещи, Янгита обратным рейсом вылетела в поселок, поскольку школьные каникулы кончились. А я остался. Живя с этими людьми, работая с ними, я многому научился. Со временем я заделался настоящим оленеводом, узнал уйму тайн природы, многие охотничьи хитрости, а самое главное — я научился видеть все их глазами. Началось все с тетеревов. Как только паводок спал, на реке, прямо против стойбища, но ближе к противоположному берегу, обозначилась загорбина островка, поросшего кустарником. На этом островке токовали тетерева. Слеталось их туда видимо-невидимо. В светлой белой ночи птицы шипели, клокотали, отважно наскакивали друг на друга. Я тогда был страстным охотником, угрызения совести из-за убитого зверя или птицы были мне незнакомы. Поэтому соорудил я на острове шалаш-укрытие и в первое же утро ухлопал восемь тетеревов. Я плыл на лодке в стойбище и чувствовал себя счастливчиком. Однако эвенки отнеслись к моей удаче совершенно по-иному. Я сиял от радости, а они молча глядели на уложенных рядком тетеревов, гладили их алые брови, вздыхали и отходили в сторонку. Матушка Мария подвела меня к лабазу, подняла брезентовую полость, показала внушительные запасы оленины и сказала: если тебе мало еды, говори: видишь, сколько еще мяса есть. Еще прежде, когда только начинался ледоход, она преподала мне урок, когда стая уток опустилась в заводи недалеко от стойбища. Я увидал уток и помчался за двустволкой, а матушка Мария громко хлопнула в ладоши и спугнула стаю. Мне она ничего не сказала, но принялась рассуждать с Ольгой о том, как, должно быть, обидно, когда после трудной дороги возвращаешься домой, а встречают тебя с ружьем. Намек я, разумеется, понял, но вскоре о нем позабыл, ибо такое отношение казалось мне не только смешным, но и ошибочным. Зато с тетеревами она меня проучила очень даже наглядно. Подает мне топор и велит: «Отруби себе столько оленины, сколько съешь». Я, понятно, пытался ей объяснить, что такое азарт, охотничий пыл, ну, страсть, но ничего доказать не смог. Более того, ни она, ни кто-либо из родных не помогали мне ощипывать тетеревов. Я сидел в облаке перьев и пуха один-одинешенек целых полдня, а когда сварил и предложил угоститься, все из одной вежливости проглотили по кусочку, а матушка Мария прямо сказала: «Мое горло не может проглотить птичью песнь». Назавтра, когда тетерева снова собрались на свой весенний праздник, она упрекнула меня: «Видишь, как не хватает им тех, кого ты погубил и съел». Все это говорилось вполне серьезно, без намерения высмеять или уколоть. Я чувствовал себя настоящим чудовищем, упившимся кровью невинных младенцев, злился на всех своих новых родичей, а больше всего — на самого себя. Зато когда впервые вытащили на берег полные сети, когда выпотрошили все это несметное количество рыбы и набрали почти полное ведро икры, посолили ее и ели ложками, я попытался ответить тем же, заметив, что у нас на зубах с хрустом гибнут тысячи неродившихся жизней. Это было в ту пору, когда рыба шла в верховья рек на нерест. Но матушка Мария преспокойно ответила, что рыбы — это совсем другое дело, они не знают своих детей. Ведь рыбы не насиживают яйца, не выводят детенышей, ничему их не учат, как это делают птицы, объяснила она мне. Матушка Мария смолоду ни разу не была замужем. Так уж сложилась ее жизнь в юности, что после летней любви мужчины уходили своими неведомыми путями, а матушка Мария по весне рожала ребят. Всех своих детей она любила одинаково. Некоторым исключением был младшенький — Игорь. И не столько он сам, сколько его отец, какой-то Иван, который много лет назад прибыл в эти края, гоняясь за длинным рублем. Это был единственный отец ее ребенка, чей адрес, записанный химическим карандашом на кусочке картона, матушка Мария хранила в кармашке чемодана. Где живут, чем занимаются отцы остальных ее детей, Мария понятия не имела, а вот Иван время от времени посылал ей короткие весточки. Когда под осень Янгита собралась лететь назад, в поселок, матушка Мария с отчимом Афанасием пришли к нам в чум и принесли целую кучу денег, насыпанных в цветастую наволочку. Она подала дочери картонный квадратик с адресом Ивана, велела переписать, потом зачерпнула горсть бумажек из наволочки и сказала: «Пошли ему деньги и напиши, что Игорек растет здоровым». Она даже не считала, сколько денег оказалось в горсти, бросила их Янгите в подол — и все. Я уже знал, что кочевые эвенки, как правило, не ценят денег. Видел, как, попадая в поселок, они могли за день истратить свой годовой заработок, угощая всех знакомых и чужих, покупая дорогие подарки кому попало. А заработки у оленеводов очень даже приличные. Достаточно кому-либо похвалить тот или иной товар на магазинной полке, как эвенк-кочевник при деньгах немедленно его покупает и дарит новоиспеченному другу. Таких забредающих в поселок кочевников мастерски обирали всякие проходимцы и негодяи. Они умели выжать из доверчивого кочевника все до последнего рублика.