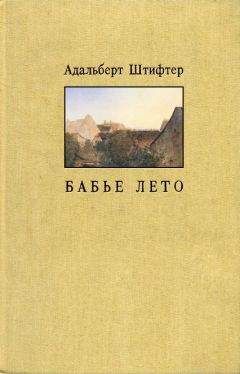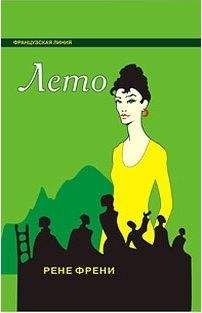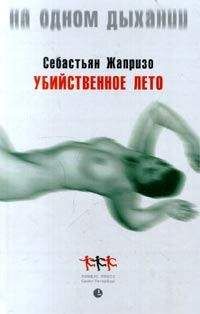Александр Коноплин - Шесть зим и одно лето
— Эта судьба ждет и нас, — сказал Долгунов, — у большевиков всегда так: народные герои очень скоро превращаются в палачей. Так было с Тухачевским, Блюхером, Чапаевым, Якиром и прочими героями гражданской войны. Одни по приказу Ленина, другие Сталина топили в крови народ, если он поднимал голову.
— Как это? — у меня от изумления перехватило дыхание. — Ведь мы же на них чуть ли не молились!
— Молимся и сейчас. Пока не узнаем правду о них. А узнать ее можно только здесь, юноша, — он протянул мне завернутую в полотенце рукопись, — еще не всех свидетелей советская власть перебила, много участников гражданской бродят по лагерям. Да ты сам порасспрашивай. В восьмом бараке доходит бывший комдив. В гражданскую служил у Миронова во Второй Конной армии. Двенадцать лет молчал, а с неделю назад вдруг заговорил…
— Уже не говорит, — сказал стоявший у входа, — вчера в яму свезли.
— Вот как?! — Долгунов еще более помрачнел. — Не знал. Жаль. Не договорил бедолага. Подозреваю, меня он выбрал в качестве попа: в грехах каялся, о крови, что на нем была, говорил. Бери, юноша, эти бумаги и прячь понадежней. Особенно на этапах. А если о нас услышишь плохое — не верь. На нас только немецкая кровь, русской нет. Воевали честно, а то, что здесь скурвились, так это не по нашей вине, честное слово!
В мастерской я развернул рукопись. Это была тетрадь, исписанная карандашом размашистым почерком, и десятка два отдельных листочков бумаги, похожей на оберточную. Ни имени, ни фамилии автора найти не удалось. Долгунов, как выяснилось, тоже не знал. Все описанное происходило частично в этом лагере, частично в каком-то другом, где заключенные носили на одежде номера.
— Тридцать восьмой год, — уверенно сказал Витковский, перелистывая вместе со мной страницы, — а лагерь не каторжный, хоть и с номерами. В каторжном впереди номеров обязательно стоит буква. Каждая буква — это сколько-то тысяч, в зависимости от ее места в алфавите. Например, номер «А-700» означат, что в общелагерном списке этот зэк тысяча семисотый; если «В-300» — три тысячи трехсотый и так далее.
Первое, что я обнаружил, начав читать, — рукопись не представляет собой законченного произведения, а состоит из обрывков каких-то наблюдений, бесед с заключенными, переписанных приказов по лагерю, разговоров начальства между собой. Автор был не простым зэком, а кем-то вроде нарядчика или бухгалтера. Это, кстати, давало ему возможность писать и доставать бумагу, слышать и видеть то, что скрыто от глаз и ушей остальных. Куда же он все-таки девался? Умер? Освободился и уехал, забыв про рукопись? Перечитывая ее во второй и третий раз, я пришел к выводу, что писал ее не один человек, а двое — мужчина и женщина. Четкий почерк с округлыми буквами явно женский, но именно то, что писала эта рука, было живо, интересно и художественно. Мужчина протоколировал сухо и бесстрастно. Фактам, конечно, верилось, но за душу брали все-таки женские эмоции.
— Что думаешь делать? — спросил Витковский, помахивая перед моим носом пачкой бумаг.
— Не знаю, — признался я, — может, привести их в порядок да так и оставить?
— Вот в этом виде? — он снова тряхнул бумагами. — Это значит — всё погубить, а материал тут такой, что хотелось бы донести до народа. — С минуту он смотрел на меня и кусал губы — привычка с детства, — потом спросил: — Ты знаешь, что такое соавторство? Ну да откуда тебе знать…
— Почему же? Ильф и Петров вместе написали гениальное произведение, даже два…
— Тем лучше. Значит, поймешь мою мысль. На нашем ОЛПе нет пишущих, мы с Николаем тоже тебе не поможем, так что бери все на себя: доделай! И присоедини к своим. Пусть и это будет твоим. Стыдного тут нет — настоящие авторы тебе только спасибо скажут. Только вряд ли они живы.
— Не сумею я. У меня ведь просто короткие рассказы, зарисовки, а тут настоящее литературное произведение.
— Ну, до этого еще далеко. У тебя верный глаз — это главное. Читал я твои «зарисовки»… Нет, это не «зарисовки», а нечто более серьезное — не знаю, как выразиться. В общем, у тебя верный глаз — такое мое мнение. Вот Коля говорит, что ты станешь художником — у него тоже верный глаз, — а я думаю, писательство пересилит! Вместе то и другое не уживется, каждое требует себе человека всего, со всеми потрохами. Жаль, будущего твоего не увижу. Не доживу, наверное, а было бы интересно…
Витковский оказался прав, хотя сам еще не знал об этом. Некоторое время живопись и литература у меня шли рядом, потом постепенно литература стала брать верх. Писал я теперь днем и ночью с таким желанием и страстью, перед которыми меркли все лагерные неприятности. Верил твердо: придут иные времена — и я окажусь на свободе. И уже видел в мечтах себя сидящим за нашим старым письменным столом на дубовых ножках, перед черным мраморным прибором с начищенными медными деталями. И стол, и письменный прибор, и часы «Павел Буре», висевшие на противоположной стене, принадлежали еще моему деду, затем перешли к отцу, а когда он ушел на фронт, стали моими. В письмах к матери я иногда спрашивал обо всех этих вещах, чем вызвал ее удивление.
«Пианино, шубу и мебель, — писала она, — мне удалось продать, а дедушкин стол никто не берет — слишком стар, боятся жучков, письменный прибор кажется покупателям слишком громоздким — все-таки шестнадцать предметов! — гораздо удобнее иметь ручку с пером или карандаш. Осталось продать кое-что из кухонной утвари, но это — копейки. Когда продам и это, не знаю, что буду делать с посылками, ведь зарплаты хватает только на квартиру, электричество и дрова…».
Итак, письменный стол еще жив! Листая чужую рукопись, я находил в ней множество ошибок, чувствовал торопливость, поверхностность: «Вчера опять урезали пайку. Сказали, в связи с военными действиями на Халхин-Голе…». Однако, поразмыслив, все-таки пришел к верному выводу: о таких фактах надо писать сухо, протокольно: чем трагичнее происходящее, тем — короче, и только самое нужное. «Покойников теперь долго не закапывают, они лежат кучей за зоной, постепенно заметаемые снегом. Дней через пять закопают. Мы видим их сквозь щели в частоколе, многих узнаем, и от этого становится еще тоскливее на душе».
А вот что-то вроде шутки: «Начальник сказал, что тех, кто хорошо работает, будут хоронить в гробах…». Думаю, у того, кто писал, от такой шутки — мороз по коже…
Уж не с этой ли чужой рукописи я стал писать сжато, что иногда вызывало неудовольствие первой моей читающей публики — зэков: «И чего обрываешь на интересном? Бумаги жалко?»
Время от времени я показывал свои новые опусы Витковскому.
— Не всякая краткость — сестра таланта, — сказал он и задумался. — А вообще-то, может, ты и прав: наступают новые времена. Начальник КВЧ дал как-то свежий журнал… Писатель пишет о войне — забыл его фамилию. И, знаешь, читать интереснее, чем «Войну и мир» Толстого! Быстрее раскручивается сюжет, нет рассусоливания, философии всякой. Идет бой, он показан честно, просто, кроваво, а там уж сам соображай, что к чему и за что погибали мужики. Кстати, сейчас мне бы в голову не пришло перечитывать «Госпожу Бовари», а ведь когда-то читал с упоением.
Всякий переезд связан с хлопотами. Тем более когда не сам едешь, а тебя везут, да еще под конвоем, когда представить не можешь, что ждет тебя в Минске — снижение срока, свобода или этап в еще более страшные лагеря. И что произойдет на этапе? Разденут тебя урки догола или что-нибудь оставят «на сменку»? Или, наоборот, сам возьмешь в руки инициативу, как уже было, и загонишь шпану под нары? Наконец, узнает ли мама о моем приезде и дадут ли нам свидание?
Есть о чем волноваться будущему этапнику. Так было и раньше, но теперь добавилась забота о рукописи — о тех самых шести общих тетрадях, к которым пришита нитками тонкая тетрадка с чужими мыслями, болью и страданиями. Прятать на себе бессмысленно: шмонать будут не единожды. Сдать в багаж, как советовал Долгунов? А если конвой не посчитает рукопись ценностью и бросит в огонь? Для рядового конвоира бумага — материал, из которого зэки мастерят игральные карты, и не более того.
На мое счастье, тетради, завернутые в плотную материю (Витковский дал дефицитное полотно!) и перевязанные веревочкой, приняли еще до этапа, составили опись и выдали мне квитанцию, предупредив, что ни во время следствия, если таковое будет, ни на этапах я свою драгоценность не получу, а выдадут ее только по возвращении в лагерь, в чем ни начальник надзорслужбы, ни каптерщик, принявший сверток, не сомневались.
— И чего мельтешитесь, мотаетесь туда-сюда? — выговаривали мне умные люди. — Сидели бы тут, раз оказались в приличном лагере, а ведь еще неизвестно, куда попадешь после пересмотра дела.
И с тем, что лагерь этот не из худших и что можно десять раз покаяться, что не сиделось на месте, я был согласен, но теперь от меня уже ничего не зависело. Запущенная год назад жалобой моей матери бюрократическая машина давала первые обороты.