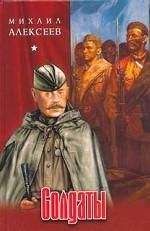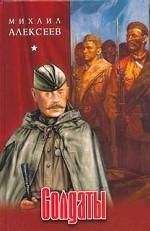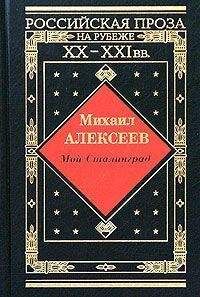Михаил Алексеев - Драчуны
Он проснулся, когда кукушка на стенных часах прокуковала шесть вечера. Не знала кукушка, что отбивает последние часы прежней, привычной жизни, которая должна была уступить новому жизнеустройству, неведомому, никем еще не испытанному, а потому и пугающему.
2
На семь вечера назначено собрание. До его начала отец мой успел наведаться домой и пообедать. Был он сумрачен и молчалив. Чувствовалось, что не испытывал никакого удовольствия от еды, – просто насыщался для поддержания физических сил. Никто из нас не решался ни спросить его о чем-либо, ни сообщить ему какую-нибудь свою новость. Всем очень хорошо было знакомо состояние сумрачной, угрюмой сосредоточенности этого человека. В такие минуты лучше его ни о чем не спрашивать и самим ни о чем не говорить. Самое правильное в таком разе помолчать и дождаться, когда отец заговорит первым. Стряхнув с усов хлебные крошки, он тяжело поднялся за столом, вышел на средину избы и, словно прощаясь с нами навсегда, окинул всех медленным взглядом, вздохнул и сказал как-то загадочно:
– Ну вот и все. Пойду!
На душе у него было муторно. И откуда навалилась эта тяжесть, он еще сам толком не знал. Давеча, в конторе, обновляя списки, вовсе не чувствовал этого давящего груза на сердце; одна мысль, пришедшая тогда в его голову, даже немного подбодрила его: гибель юной рысачки Майки оказывалась теперь как бы уж не одной только нашей, но и общей бедой, потому что с завтрашнего или послезавтрашнего дня и Майка, и ее старая мать Карюха сделались бы собственностью колхоза. Склонившись над бумагами и выводя красивые буквы, папанька цепко держался за эту мысль, боясь выпустить ее из головы, а вместе с нею ровное, даже чуток приподнятое состояние духа. Однако, придя домой и усевшись за стол, он внезапно почувствовал, что мысль, за которую он так судорожно ухватился, хоть все еще и жила в нем, но уже не поддерживала его, потому что была наполовину подавлена чем-то другим, покамест совершенно неясным, но отчетливо ощутимым и тяжелым. Человеческое сердце – вещун. Оно раньше нашего сознания догадывается о приближающихся радости или беде. Разве мы не замечаем, как кто-то из нас вроде бы беспричинно вдруг улыбнется, осветится весь, либо так же без всякой, казалось, причины внезапно сменится с лица, побледнеет или почернеет, впадет в крайнюю угрюмость, – а отчего, почему, и сам он и мы вместе с ним узнаем позже.
Сердце не умеет обманывать.
Не обмануло оно и папаньку.
Собрание проходило в нардоме, поместившемся в бывшей молельне (не Ефремовской, а чьей-то другой), утратившей прежнее свое назначение тотчас же за революцией и уступившей место и другому «богу», и иным «молитвам». При нардоме организовалось несколько кружков, и самым деятельным из них почему-то оказался драматический. Потому, может быть, что недавно окончившаяся гражданская война оставила после себя обилие драматического материала. Одноактные пьесы сочинялись с невероятной быстротой и рассылались Наркомпросом по всем городам и весям молодой Советской Республики. Постановки сменяли одна другую, а реквизит оставался постоянным: муляжные винтовки, парабеллум и наган, буденовка, папаха, перехваченная наискосок красной лентой, серая шинель, черный бушлат, тельняшка, бескозырка – это неизменные символы революции; погоны, фуражка с высокой тульей, хромовые сапоги на скрипящей подметке, генеральские усы и бакенбарды, с которых, перед тем как наклеить очередному «артисту», наскоро сдувалась пыль, синие галифе с лампасами, монокль с длинным шнурком, стек – белогвардейские, контрреволюционные, стало быть, символы. Другого не было, да и не требовалось, ибо вся драматургия того времени создавалась на одном и том же материале. (Помнится, мы как-то с Ванькой Жуковым, используя суфлерскую дверцу на сцене, пробрались средь бела дня в «артистическую» нардома и чуть было тогда уж не подрались из-за того, что ни он, ни я ни за что не хотели облачаться в генеральские и офицерские доспехи, ему и мне надобно было непременно стать либо красноармейцем, либо революционным матросом.) Отцу моему – а он был постоянным участником художественной самодеятельности – неизменно доставались комические роли ротного писаря, не важно какого – красного или белого, того и другого он изображал с одинаковой убедительностью, вызывая смех зрителей прежде, чем заговорит.
А вот сейчас, хоть и находился на той же сцене (его избрали в президиум собрания), отец был тих и печален, тревожными, чего-то ожидающими глазами перебегал с одного сидящего в зале мужика на другого, как бы стараясь понять, от кого же из них надо ожидать неприятностей для себя, кто нанесет первый удар.
В ближних рядах, будто сговорившись, уселись те, которые в сельсоветских списках были отмечены черточкой, то есть беднейшие из беднейших. Первым, кто подвернулся на папанькины глаза, был Карпушка Котунов, удививший всех своей одеждой. И прежде-то Карп Иваныч одевался во что бог пошлет, но сейчас натянул на себя такие рубища, что и вообразить было невозможно: где только собрал он все эти шоболы, по каким чердаками и чуланам?! Особенно живописна была шуба. Мало того что она явно с плеч его жены Меланьи, но ее будто специально для этого случая пропустили несколько раз кряду через мяльницу, которою обычно мнут коноплю, устраняя из нее кострику, и изжевали так, что не оставили ни единого живого места; черно-белые клочья шерсти, вывернувшись наружу спереди и сзади, делали Карпушку похожим на какого-то диковинного зверя; драный собачий малахай лишь усиливал такое впечатление. Ноги и вовсе были босые, потому что нельзя же считать за обувь шерстяные носки без паголенков! Неясно только, как добрался мужичок до нардома в январскую стужу? Невольно возникало подозрение: не припрятал ли он валенки где-нибудь под этой шубой? А может, кто-то из сердобольных соседей завернул бедолагу в свой тулуп и доставил на собрание?..
При всем при том Карпушка, ежели судить по улыбке, которая не покидала его простодушного лица, чувствовал себя превосходно. Он подмигнул моему отцу, приметив, видно, что тот не в духе, и не убрал своей улыбки и тогда, когда папанька не только не улыбнулся в ответ, но еще больше нахмурился, переводя взгляд на кого-то другого.
По правую руку Карпушки Котунова устроился дедушка Ничей. Этот сидел с раскрытым ртом, боясь не услышать туговатым ухом то, что сейчас скажет Михаил Спиридонович Сорокин, уже поднявшийся за покрытым красной материей столом и барабанивший по этому столу костяшками согнутых пальцев, стараясь водворить тишину. Глаза же дедушки Ничея вцепились не в председателя, а в незнакомого человека в темно-синей гимнастерке, который сидел рядом с Сорокиным и что-то сердито подсказывал ему.
Позади деда Ничея беспокойно ерзал Степашок Тверсков, Мишки Тверскова отец, и все время что-то нашептывал старику, мешая ему сосредоточиться. Другой на месте деда шумнул бы на назойливого мужика, отпугнул бы его сердитым матюком, но дедушка Ничей был слишком добр для этого. Единственное, что он мог сделать, так это помалкивать себе в тряпочку, не обращать внимания на Степашка и на его слова. Однако Степашок все-таки пронял упорно отмалчивающегося старика, заставил заговорить. Это случилось в тот момент, когда Степашок в пятый, кажется, уж раз высказал тревогу, которая, похоже, терзала сейчас не одного его:
– Соберемся в одну артель, снесем туда свое добро, а такие, как Гришка Жучкин или Яшка Конкин, все как есть порастащут!
– Ах, вон ты об чем! – встрепенулся дедушка Ничей. – Эка беда! Пущай тащут, лишь бы не воровали!..
– Опять ты за свое! – рассердился Степашок. – Совсем, знать, из ума вышел, дед? Таскать и воровать – один хрен! А ты заладил… Да и я хорош: нашел с кем советоваться!..
– А ты, Степаша, не гневись, не серчай на старика. Можа, оно и того, поглупел маненько. Шутка сказать, осьмой десяток разменял дедушка Ничей! Так што…
– Ладно, молчи, дед. Сорокин што-то воззрился на нас с тобой. Должно, мешаем ему.
– Знамо, мешаем, – и дед Ничей принял прежнее положение напряженной сосредоточенности. Про себя, однако ж, подумал: «А зачем бы убиваться Степашку?.. Много ли у него добра, чтобы так-то уж маяться душой из-за него. Аксинью и девок его не обобществят, при нем останутся. А меринок и без того не нынче, так завтра отбросит копыта в сторону. Ему, кажись, уже за тридцать».
В первом ряду, левее Карпушки, водрузили себя неразлучные Микарай Земсков и Паня Камышов. Блаженных, разумеется, никто не наряжал на собрание, но они припожаловали сами, потому что любили народные сборища, и не было еще такой сельской сходки, которую они пропустили бы. Их не выдворяли, ибо знали, что вреда от Микарая и Пани не будет, что Микарай просидит или простоит молча хоть час, хоть пять, хоть десять часов, как простаивал в церкви всенощную в канун пасхи. Ну, а о Пане Камышове и говорить нечего: глухой, немой и на редкость смиренный, он и вовсе никого не обеспокоит. К ним давно привыкли как к некой постоянной и обязательной величине в жизни села, и, верно, все бы заскучали, почувствовали себя как бы осиротевшими, ежели б Микарай и Паня вдруг исчезли, улетучились куда-то, – разыскивают же чуть ли не всей деревней Гришу Мерлинского, известного едва ли не на всю Саратовщину дурачка, когда он на неделю или больше убегает из Вишневой Гайки. Разыскивают и терзаются душой до тех пор, пока он, немытый, весь в бурых струпьях, обросший иссиня-черной жесткой волосней до самых глаз, не объявится вновь. В отличие от Гриши наши божьи человеки ни на один час не удалялись за пределы Монастырского и были своеобразным украшением села, его забавой, – без них, и это подспудно чувствовали все, село поскучнело бы, утратило какие-то важные и нужные ему оттенки.