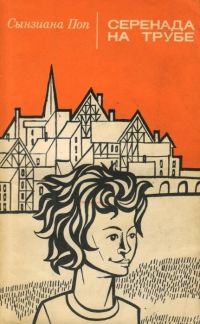Андрей Островский - Напряжение
— Вам кого надо? — спросила она, отступив на шаг.
Бенедиктов, не ожидавший увидеть ребенка, спросил, живет ли здесь гражданка Юрышева, и шагнул в прихожую.
— Мама, к тебе пришли, — слабенько крикнула девочка, не двигаясь с места и с любопытством разглядывая его.
— Кто там? — послышался глухой голос из ближайшей слева комнаты.
— Какой-то дяденька, моряк…
Из комнаты донеслись шевеление, вздохи, заскрипели половицы — наверное, женщина лежала и теперь, готовясь выйти, одевалась.
— У вас хлебушка нет? — тихо спросила девочка, в глазах ее затеплилась надежда.
Бенедиктову стало не по себе. С нахлынувшим чувством жалости и одновременно нежности к этому голодному ребенку он нагнулся и погладил девочку по жиденьким, спутавшимся волосам.
— Нет, моя дорогая, у меня ничего нет, — проговорил он как только мог мягко, досадуя и стыдясь своей беспомощности.
Разочарованная, она увернулась от его ласки и, втянув мерзнувшие руки в длинные рукава кофты, встала возле двери.
Тяжело ступая, вошла мать. Лет тридцати, тоже голубоглазая, с нездорово полным лицом, она одной рукой оперлась на косяк, другой придерживала у шеи черный платок. Опухшие ноги были с трудом втиснуты в валенки с разрезанными вдоль голенищами.
— Что же вы тут стоите, проходите, — сказала она, кивком приглашая в комнату.
Бенедиктов вынул свое удостоверение, сказав, что хотел бы с ней поговорить. Она повертела его и, не рассматривая, вернула.
— Да ладно, чужие не придут.
Как всякую женщину, ее больше беспокоил беспорядок в комнате. Она освободила часть стола, заваленное го мелочами, переставила на комод миску с коричневой вонючей жижей, сняла тряпки с жесткого кресла, предложила Бенедиктову сесть, сама села на диван.
— Вы давно здесь живете? — спросил он, чтобы завязать разговор.
— Да я здесь родилась, — подернула плечами Юрышева. — Раньше вся квартира была наша — три комнаты. Потом старики мои умерли, нас уплотнили, въехали соседи. А сейчас мы с Валюшей снова одни. Живем… Хотела сказать «хлеб жуем», но хлеба… — вздохнула, усмехнулась горько: — Да и жевать нечем. Но ничего, не сдаемся. Правда, Валюша? — Она обняла девочку, приклонившую голову ей на плечо. — Мы часто с ней думаем: вот разобьют наши фашистов, Гитлера проклятого повесят, папка с фронта вернется — и заживем, как бывало…
Бенедиктов представил ее молодой, в семье — проворная, домовитая, словоохотливая… Сколько таких гнезд поразрушала война!
— Это ваш муж? — показал он на фотографию над диваном: светловолосый парень в рубашке, вышитой крестом (наверняка работа жены!), смотрел открыто и уверенно, даже заносчиво, как бы наслаждаясь своей силой и уверенностью.
Она кивнула, и тут губы ее дрогнули, скривились.
— Два месяца ничего от него не получаю. Написал в октябре и — как в воду… Конечно, письмам сквозь блокаду трудно пройти…
Она искала у него сочувствия и подтверждения своим догадкам, Бенедиктов не стал разрушать их, наоборот придумал тут же схожий случай, будто бы произошедший с одной его знакомой, — тоже долго не получала писем от мужа, а они где-то лежали, копились, потом ей вручили целую пачку.
Юрышева посветлела лицом, Бенедиктов, продолжая, незаметно подвел разговор к интересовавшим его событиям.
— Стрелял на днях изверг. — В голосе ее появилась жесткость. — Предатель. Совсем где-то возле наших домов запускал. Раньше я в дружине состояла, так мы — женщины да мальчишки — поймали одного в сентябре, чуть не растерзали подлеца. Но не дали нам!.. А теперь куда уж мне, сил нет и ноги как бревна. Разве за ним угонишься по лестницам и чердакам! Только злобу в себе набираешь, думаешь: попадись мне в руки, стреляльщик, ждать никого не стану, сама задушу.
— На днях — это когда?
— Во вторник. Вечером, поздно уже было, часов семь. Вчера меня милиционер тоже спрашивал об этом.
— Значит, ищут… — Бенедиктов качнулся в кресле, сев поудобнее. — Как получилось, что вы заметили?
— Да ведь как… Случайно. Ходила к знакомому столяру, тут, у собора он живет, клею мне обещал немного столярного. Плетусь обратно, и — воздушная тревога. Пришлось пережидать в парадной. Вдруг вижу: бах, бах — ракеты… Совсем рядом, я даже подумала: не из нашего ли дома? И самолет уже воет. Все, думаю, сейчас разбомбит.
— Так все-таки из вашего дома стреляли?
— Не знаю, по-моему, вон из того, — махнула она рукой в сторону дома напротив, где жил Лукинский, — или из соседнего… Поди, Валюша, поиграй, — заметив, что дочь заскучала, сказала она и взяла с дивана старую, без платья, тряпочную куклу с болтающимися ногами. Девочка прижала ее к груди, что-то зашептала на ухо матери. — Ладно, потом, иди поиграй, дай нам поговорить. — И, отстранив ее от себя, повернулась к Бенедиктову: — Скучно ей, не знаю, чем и занять. Все есть, есть просит. Кабы играла с кем, легче было бы, про еду реже вспоминала бы.
Бенедиктов склонил голову в знак согласия, спросил:
— После отбоя вы сразу домой пошли?
— Куда же еще?.. Страху я там в парадной натерпелась: крохотуля-то моя в бомбоубежище. Не одна, люди там, но все равно без матери. Случись что, разделяться нам нельзя, только вместе…
— Видели кого-нибудь около того дома, когда шли?
— Мало… Женщину встретила с холщовой сумкой за спиной.
Пришлось выслушать про женщину, потом узнал, что с набережной свернула на улицу другая, расспросил и про нее.
— И больше никого?
— Да, раненый еще какой-то из парадной вышел.
— Раненый? — Голос Бенедиктова упал до безразличия. — Почему раненый?
— На костылях он был. И вроде бы пальцы на руке перевязаны.
— А-а… Без ноги, что ли?
Она прикоснулась ладонью ко лбу, закрыла глаза, припоминая.
— Нет, обе были… Волочил он больную ногу.
— На двух костылях или на одном?
— На двух, на двух…
Каждое слово прилипало к мозгу, и отодрать их уже было невозможно. Бенедиктов поднял глаза на собеседницу:
— Вы сказали, что он вышел из парадной. Я правильно понял? Или он уже стоял у парадной, когда вы шли?
— Вышел. Дверь на пружине, и он сначала выставил костыль, а потом пролез сам, дверь его подтолкнула в спину.
— И он сразу пошел? В какую сторону?
— Не сразу. Постоял, закурил. Еще искру высекал, — Юрышева невольно черкнула костяшками согнутых пальцев, — и пошел в сторону Большого.
— Ага, кресало… Лицо его заметили? Молодой, пожилой, с усами, без усов?..
— Нет, где там, в темноте-то. Да я и не смотрела, случайно мимо шла, все думы о Валюшке. Сердце исстрадалось.
— Ну конечно, конечно, — торопливо проговорил Бенедиктов. — Раньше он вам тут не встречался?
Она медленно покачала головой.
— А одет как был? На голове что?
— В пальто… обычное пальто. А что на голове — не посмотрела.
Он спросил еще, но вопросы уже мало что значили, тем более ответы. Потом он искусно свел разговор на пустяки и, извинившись за беспокойство, стал прощаться.
5. ГДЕ ОН ЖИВЕТ?
То, что называлось хлебом, начинали выдавать в семь утра. Бенедиктов подошел к булочной на углу Большого проспекта, где мог брать хлеб Лукинский, незадолго до открытия.
Еще издали он увидел в темноте реденькую толпу, облепившую вход. Женщины в ватниках, в платках, туго затянутых на пояснице, противясь стуже и ветру, не стояли на месте — пританцовывали, постукивали ногой о ногу, но не удалялись далеко от дверей. Мужчин было немного, и никто не опирался на костыли.
Бенедиктов выбрал место под аркой в доме напротив — не самое удобное и на ветру, зато оно позволяло, не привлекая к себе внимания, видеть каждого, кто подходил к булочной.
Вскоре стукнула дверь, мелькнул слабый, колеблющийся огонек внутри, и толпа, быстро разредившись в цепочку, почти целиком исчезла.
Где-то далеко щелкал из динамика метроном, отсчитывая секунды, минуты, часы… Хвост у магазина то увеличивался, то сокращался, потом и вовсе никого не осталось на улице.
Холод проник сквозь шинель, мелкая дрожь начала дробить тело. Собираясь покинуть неуютное убежище, Бенедиктов осмотрел напоследок надоевшую ему улицу и тут совершенно неожиданно для себя услышал за спиной тихий размеренный стук. Стук костылей — ничего другого быть не могло. Бенедиктов напрягся, задержал дыхание, соображая, как поступить.
— Товарищ капитан-лейтенант, махорочкой не богаты? — Голос простуженный, немолодой.
Бенедиктов обернулся, словно выведенный из глубокой задумчивости. Мужчина в драповом пальто и матерчатой рваной ушанке с торчащей из дыр ватой висел на костылях — плечи вздернуты, голова опущена.
— Махорочкой?.. Гмм… Найдется, — Бенедиктов охотно закинул полу шинели, полез в карман брюк; лицо его выражало приветливое простодушие, — особо раненому братишке. Раз такое обращение — «капитан-лейтенант», стало быть, свой, флотский?