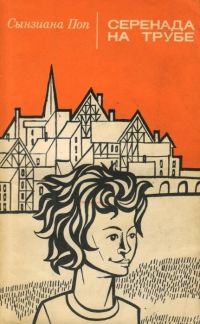Андрей Островский - Напряжение
Меня мучают галлюцинации — все чувства срабатывают на еду. То просыпаюсь от стука разрубаемого мяса, то не могу отвязаться от назойливого запаха куриного бульона. Недавно шли с Д. мимо развалин дома, и вдруг я полез на кирпичи: я совершенно ясно видел валявшиеся полбатона — с рубчиками на корке, не отрезанные, а обломанные полбатона. Чушь, откуда могли взяться батоны? Какую-то тряпку принял за хлеб…
Все-таки я попросил Б. воды. Когда он вышел в кухню, я запустил руку под газету. Как ошпарило: рис!! Взял щепотку в карман. Чтобы не обвинить себя после в галлюцинациях.
Я не испытывал ненависти к Б. Пожалуй, нет ее и сейчас. Невероятно, но тогда я почувствовал неловкость оттого, что уличил его во лжи и что ему могло быть передо мной стыдно.
Ушел оглушенный, теребя в кармане этот несчастный десяток зернышек. Дома рассмотрел их как следует: добротный рис.
Правда, Егорке уже ничто все равно не помогло бы. Он умер на следующий день.
Не слишком ли много о Б.? Бог с ним…
Есть вещи, которые один человек не простит другому никогда, хотя по законам морали его поступок нельзя считать тяжким. Не простит потому, что оценки поступков воспитаны в человеке всей его, собственной жизнью, его представлениями о ней, а одинаковых жизней не бывает. То, что одному кажется чудовищным и непрощаемым, другой может простить с легкостью.
Совсем зарос я в своей пещере. Взял тряпку, провел по столу и бросил эту бессмыслицу. На что стали похожи наши светелки! Все в копоти, в пыли, кругом развал; на потолке в углах сверкает иней, из окон свищет. Бедная Наденька, великая ценительница домашнего очага, уюта, пришла бы в ужас. Оказывается, надо не так уж много времени, чтобы пустить все прахом. Каких-нибудь полгода.
Фантастически далеким кажется то время, за полугодовым барьером. Другой век, другая эпоха. Да и было ли оно? А если было, то я ли жил тогда?
К нам приходят гости. Сюда. Закрываю глаза и открываю. Они сейчас вместо театрального занавеса. Тьма исчезает — яркий свет. Горят все лампы. Тепло, все сверкает, из кухни текут умопомрачительные запахи пирогов, жаркого, свежих огурцов… На столе коньячок, графины с водочкой, салаты. В прихожей гудит Ч., что-то рассказывает; раскатисто смеется Б. Я завожу патефон, выхожу к ним. Н. в любимом мной крепдешиновом платье, раскрасневшаяся, стройненькая, ножки точеные, хлопочет у стола, бежит в кухню. Приходит Т., а С., как всегда, опаздывают: задерживают дети.
Наконец все в сборе, садимся за стол, наполняем рюмки. Н. успевает шепнуть с мольбой в голосе, чтобы я не пил слишком много. Она постоянно на страже моего здоровья. Я, разумеется, даю слово, но не сдерживаюсь, и на следующий день приходится приложить немало усилий, чтобы Н. улыбнулась и начала разговаривать со мной. Но пока все хорошо, Ч. сразу завладевает вниманием каким-нибудь занимательным и смешным случаем. С ним всегда происходит что-то необычное. И он умеет подать его в наилучшем свете. Потом начинается общая болтовня, и Ч. подбрасывает кость: например, сознает ли человек, что в каких-то случаях он поступает подло? Волен ли он препятствовать этому? Или человеческая природа сильнее его желаний? С. замечает, что не видит предмета спора: конечно, сознает! Подлец совершает подлость, зная, что делает, но сам себе так ее не назовет, слишком уж мерзостно это слово. И будет бешено сопротивляться, если кто-нибудь скажет об этом прямо. Знает, конечно, знает! Если бы люди не знали, что поступают подло, не было бы подсиживаний, карьеризма, подметных писем… «Ну вот, очевидное упрощенчество, — качает головой Ч., и усы его топорщатся от несогласия, — позвольте, у меня есть другое мнение на этот счет…» Я принимаю сторону С., но с оговорками, Б. с ним не согласен совсем, и баталия началась!
Сколько за историю выпито в спорах и мечтах о совершенстве себе подобных! А к совершенству люди не торопятся. Возможно ли оно? И нужно ли? «Скучно будет жить, если все станут совершенными» (мысль Б.). «А поножовщина — весело?» (реплика С.). «Если бы была возможность, интересно проследить, какие пороки отмирают или уже исчезли, а какие оказались живучими и процветают. И может быть, появились новые, которых, например, древние греки не знали» (мысль Т.).
Глаза его. Вот что вызывает какое-то неясное чувство смятения. Проснулся сегодня ночью оттого, что увидел их перед собой в темноте. Объяснить не могу, в чем дело. Глаза как глаза. Впрочем, кажется, улавливаю: они — часть другого лица; они должны принадлежать человеку угрюмому, с неподвижным лицом. У него же лицо живое.
Всякое несоответствие настораживает и пугает. (Бенедиктов переписал эту фразу себе в блокнот.)
Но сказать о нем плохо не могу. Малость зануден и назойлив. Зачастил ко мне, отказать ему приходить я не в силах. Удивительно: мне тяжко и противно одиночество, но и приятно.
Он тоже одинок, погибла вся семья, сам израненный, и, видимо, его влечет к такому же бедолаге. А иногда приходит в голову, будто ему что-то нужно от меня, чего-то он не договаривает. Мне многое сейчас чудится, себя не узнаю.
На следующий день после нашего мимолетного знакомства он неожиданно появился у меня. Подняться на костылях на пятый этаж — не халам-балам, как говорил Ч. Но еще больше поразило (и тронуло!), когда он вытащил из кармана бутылку спирта и банку довоенных крабов! С куском дуранды в придачу. Славное сочетание — крабы с дурандой! Все было кстати: я совсем раскис после потери Н. и Е. А тут ожил. Человек он общительный и неунывающий. Сыплет анекдоты сомнительного юмора.
Себе могу признаться, что устаю от него, разные мы люди, строй мыслей разный.
Опухают ноги. Слабость, клонит ко сну. Сегодня утром выпал еще один зуб, соседние шатаются. Если так пойдет дальше, скоро буду шамкать, как столетний старец. Что меня ждет?
Прочь черные мысли!! («Костыли. Неясность и беспокойство, — записал Бенедиктов. — Обратить особое внимание на стр. 38—39».)
Вспоминаю август. Уже война. Лето. Тепло, зелень. Только что вернулся с окопов. Радость встречи с Н. Город изменился. Окна в бумажных крестах. В скверах, дворах — щели. Отряды ополченцев. Идет эвакуация, а народ прибывает. Беженцы. В коммерческих магазинах очереди. На улицах столы с книгами. Сколько вдруг появилось прекрасных книг!
Поехали с Н. и Ег. к памятнику Кирову. Там на площади трофеи — «юнкерс», бронемашина, танкетка. Черные, с крестами, пахнущие бензином и маслом. И прекрасные пробоины. Толпы любопытствующих. Егорка прыгает на одной ножке, едим мороженое. «Папа, зачем люди воюют? — спросил он. — Ведь это больно». На окопах навидался всякого, а тут — уверенное спокойствие. Воздушные тревоги, как учеба: тревога — и скоро отбой. Самолеты где-то там, далеко, к Ленинграду не подпустят. Н. сказала: …»
«Что она сказала, мы не узнаем, — подумал Бенедиктов, закрыв тетрадку, встал. — Не узнаем…»
Когда Жуков впервые назвал фамилию Лукинского, Бенедиктов усомнился в самоубийстве, но, приученный к выдержке, даже не намекнул об этом Жукову и Калинову. И потом, несмотря на заключение врачей, сомнение не покидало его. Тетрадь, открывшая Лукинского с совершенно иной стороны, все-таки не прояснила то, что больше всего интересовало Бенедиктова: мог ли он, надломленный и растерявшийся, по собственной воле расстаться с жизнью?
И да, и нет…
Склонив крупную голову, Бенедиктов ходил по комнате от стены до стены — руки за спиной, брови насуплены. Что делал у него инвалид? О чем они говорили, кроме анекдотов? Не означает ли фраза «Разные мы люди, строй мыслей разный» попытки склонить Лукинского к чему-то? Если допустить, что ракетницу принес инвалид, то связана ли смерть Лукинского с сигналами из его окна? Разве не мог этот человек, узнав, что Лукинский мертв, проникнуть в квартиру и воспользоваться ее удобным расположением? Или они были сообщниками? Наконец, инвалид мог убрать Лукинского по каким-то соображением. Каким?
Вдруг у Бенедиктова брови поползли к переносице; кинулся к столу, выхватил листки, исписанные аккуратным, с завитушками почерком Жукова. Вот:
«…кроме них я видела у парадной дома номер один инвалида Великой Отечественной войны. Больше добавить ничего не имею. Юрышева».
4. МАТЬ И ДОЧЬ
Свернув за угол, Бенедиктов прошел шагов полтораста утопающей в неубранном снегу улицей, отыскал парадную в старом, дореволюционной еще постройки, доме, поднялся по скользкой лестнице на третий этаж. Постучал.
Долго никто не открывал. Дверь приоткрылась довольно неожиданно — Бенедиктов не слышал шагов. Перед ним стояла девочка лет восьми-девяти в зеленой шерстяной кофте, надетой поверх пальто, страшно худая, бледная, с голубыми удивленными глазами и грязными разводами на лице. Должно быть, незадолго до его прихода она плакала: на ресницах блестели капельки.