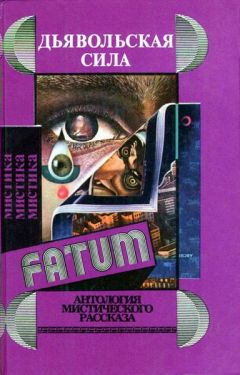Николай Шундик - Белый шаман
Кайти, судорожно прикрывая грудь, втискивалась, насколько возможно, в угол полога.
— Мы поедем дальше, в стойбище Рырки. Я заберу с собой и старуху, оставайтесь вдвоем, если ты вслед за нами приедешь в стойбище Рырки, — покровительственно сказал Вапыскат.
«Да, конечно, они еще не знают, что я сжег ярангу», — окончательно убедился Пойгин, вслух сказал:
— Я приеду.
Попив чаю и насытившись оленьим мясом, главные люди тундры уехали в стойбище Рырки, прихватив с собой Омрыну. Наконец Пойгин и Кайти остались вдвоем. Они долго молча смотрели друг на друга, то улыбаясь, то уходя в тревожную задумчивость.
— Мне почему-то холодно, — зябко поеживаясь, сказала Кайти.
— Чувствуешь ли ты в себе новую жизнь? — спросил Пойгин, как бы сопоставляя то, что он видел в памяти, неотступно думая о Кайти, и то, что видел сейчас: да, она все такая же, нет, намного лучше, потому что пережитая им тоска позволяет по-новому видеть ее грудь, бедра, эти тяжелые черные косы, всегда такие чистые, мягкие глаза, из глубины которых никогда ложь не выглядывает, как мышь из норы.
Кайти осторожно притронулась к груди:
— Да, мне кажется, у нас будет сын.
Кайти быстро расстелила иниргит и улеглась, по-прежнему зябко поеживаясь. Чуть запавшие глаза ее были тревожны: она боялась, что счастье встречи с мужем вот-вот оборвется вмешательством какой-то злой силы. А Пойгин медлил, не в силах выйти из глубокой задумчивости. Как он ждал этого мгновенья! Бежал, будто дикий олень, через долины, горные перевалы, подгоняя упряжку. «Быстрее, быстрее! — кричал он собакам. — У вас пустая нарта, я берегу ваши силы. Быстрее!» Горячие ладони его, словно отдельные от него существа, ждали прикосновения к телу Кайти, мучительно ждали. И даже лютый мороз никак не мог их остудить.
Пойгин поднес ладони к глазам, потом вкрадчиво, как бы опасаясь, что Кайти вдруг исчезнет и вместо нее окажется лишь морозный воздух, приложил их к ее животу. Кайти вздрогнула и замерла, даже, кажется, перестала дышать.
— Я хочу почувствовать в тебе новую жизнь.
И не смогла Кайти дольше сдерживать дыхание. Оно было глубоким и прерывистым. А еще через мгновение другое стало ей чудиться — что в груди у нее, в распахнутой ее душе, ворочается, пытаясь половчее улечься, мягкая, пушистая лисица. И хотелось Кайти плакать и смеяться от того, что такая ласковая пушистая лисица нашла удивительно светлое и уютное место где-то под самым ее сердцем. Ластилась лисица к ее сердцу, порой притрагивалась к нему острыми коготками. Ох, лисица, лисица, и как ты сумела так уютно улечься под сердцем самой счастливой на свете женщины? И уже потом, когда лисица, как бы встряхнувшись, ушла, играя пушистым хвостом и сладко потягиваясь, Кайти сказала:
— Я готова, если надо, уйти к верхним людям.
Приложила вздрагивающие пальцы к губам Пойгина и угадала, что он улыбается.
— Я не хочу к верхним людям, — ответил Пойгин. — Там я не буду чувствовать твое тело.
У яранги громко кричали и смеялись дети, переговаривались женщины, вытаскивая из своих очагов пологи, чтобы как следует выморозить вспотевший за ночь олений мех и выколотить иней тяжелыми тиуйгинами; потом, когда придет время для сна, пологи снова будут установлены в ярангах.
— Надо вытаскивать и наш полог, — сказала Кайти, вздохнув бесконечно тяжко.
— Наш полог, — с горечью передразнил жену Пойгин. — Нет у нас с тобой своего полога, скоро будем, как Гатле, в шатре мерзнуть.
Кайти поправила огонь в почти потухшем светильнике и принялась надевать керкер.
— Подожди, — попросил Пойгин, любуясь ее телом. — Подожди. Мне надо тебя запомнить.
Кайти вскинула на мужа испуганные глаза:
— Ты что, опять хочешь от меня уехать?
— Нет, нет. Я хочу запомнить тебя навсегда. Возможно, я когда-нибудь вернусь в этот мир из Долины предков камнем. Буду стоять вечно на высокой горе и разглядывать памятью, какая ты есть.
— Тогда я рядом с тобой тоже встану камнем. Пойгин засмеялся.
— О, тогда кто-нибудь увидит, что камень сошел со своего места. Ты думаешь, я выдержу, если ты окажешься рядом?
8
Неумолимое время совершало свой бег, вращались звезды вокруг Элькэп-енэр, плыла по небу луна, упиваясь своей безраздельной властью, пока солнце гостило где-то в других мирах. Оставив Кайти в стойбище черного шамана, Пойгин, повинуясь ходу времени, ехал на встречу с главными людьми тундры, не зная, что будет с ним. В пологе яранги Рырки его уже ждали.
— Донесешь ли ты чашку с чаем до рта, не расплескав на шкуры? — добродушно щуря узенькие глазки, спросил Эттыкай. — Наверное, это нелегко сделать после долгожданной встречи с женой.
Пойгин скупо улыбнулся, не столько в ответ шутнику, сколько Кайти, которую он так отчетливо видел в памяти.
Пойгина поили чаем, кормили мясом, пока ни о чем не расспрашивая. Но вот Рырка вытер лоснящиеся от оленьего жира руки сухой травой, раскурил трубку, протянул ее Эттыкаю и сказал:
— Начнем наш самый важный разговор. Мы желаем, Пойгин, послушать твои вести с морского берега. Рассказывай все по порядку, постарайся ничего не забыть.
Вапыскат с вялым видом обгрызал ребрышко оленя, на Пойгина он, казалось, не обращал ни малейшего внимания.
Пойгин медленно допивал чашку чая, чувствуя, как тревожно колотится его сердце. «Невидимый свет Элькэп-енэр, проникни в меня, дай мне спокойствие. Я не знаю, что мне им говорить, как быть дальше».
— Ты что, опять будешь молчать? — показывая, как ему трудно испытывать свое терпение, спросил Эттыкай.
— Я не знаю, что вам говорить. Я пока не понял, что происходит в стойбище Рыжебородого. Безумных детей я там не видел…
Вапыскат швырнул обглоданную кость в продолговатое деревянное блюдо и вдруг беззвучно засмеялся.
— Теперь я понимаю, почему он так долго молчал, — промолвил черный шаман, резко прерывая смех. — Он уже, наверное, приглядел себе местечко в деревянном стойбище Рыжебородого. Будет дуть в железную трубу и реветь, как сто моржей, вместе взятых.
— Я дул в эту трубу, — неожиданно для самого себя признался Пойгин. — У меня она не ревела, а только шипела и хрипела.
— Ты дул в эту трубу?! — в величайшем изумлении спросил Эттыкай. — Что ты там делал еще?
— Слушал, как жена Рыжебородого учила детей понимать знаки немоговорящих вестей. Мое имя таит в себе шесть знаков. Я их почти запомнил, потом попытаюсь начертить на снегу.
— Как же ты выдрал волосы из бороды пришельца? — спросил Рырка, нетерпеливо набивая трубку табаком.
— Я не выдирал. Он сам отстриг клок бороды и завернул в бумагу.
— Сам?! — взревел Рырка, роняя трубку и просыпая на шкуры табак.
— Да, сам. Это вызов тебе, Вапыскат. Рыжебородый сказал, что не боится твоей порчи.
Вапыскат все это выслушал, крепко зажмурив глаза и до боли закусив мундштук трубки, так что вздулись на его тонкокожем сморщенном лице желваки.
— Ну вот, кажется, и дождались желанных вестей, — наконец сказал он усталым, расслабленным голосом. И вдруг выкрикнул: — Предатель! Я знаю, ты уже успел своими солнечными заклятиями оградить Рыжебородого от моей порчи. Теперь я ничего не смогу с ним поделать.
— Зачем же хитрить, Вапыскат, — дерзко усмехаясь, сказал Пойгин. — Ты свое бессилие не объясняй тем, что я тебе противостою. Я не охранял Рыжебородого заклятиями. Он мне пока не друг и не враг…
— Не друг и не враг? — все больше свирепея, спросил Рырка. — Нет, мы тебе растолкуем, что он именно враг! Мы тебя еще заставим расправиться с ним, как с врагом.
— Заставить меня невозможно.
— Замолчи! — прервал Пойгина Вапыскат. — Мы не желаем больше выслушизать твои безумные слова. Я сейчас же поеду в ущелье Вечно живущей совы и сделаю заклинание перед луной у головы мертвого оленя. И пусть на тебя и на Рыжебородого найдет порча.
— Нет там теперь головы мертвого оленя, — сказал Пойгин, увлекаемый ветром своего дерзкого вызова. Да, он чувствовал, что находится не в ладу с благоразумием, но ничего поделать с собой не мог. — Я сжег ярангу. Твоя черная собака, настоящий хозяин которой Келе, видела, как бежала от моего огня луна!
Вапыскат закрыл лицо руками, тихо выборматывая невнятные слова. Вдруг оторвал ладони от лица, выкрикнул, указывая пальцем на Пойгина:
— Он безумный! Рыжебородый вселил в него безумие. Свяжите его. Я буду выгонять из него духа безумия.
На Пойгина всей своей тяжелой тушей навалился Рырка, за ним Эттыкай. Ему связали арканом руки, опутали ноги, а на лицо накинули шкуру черной собаки. Пойгин начал задыхаться, теряя сознание.
Пришел он в себя, когда его голову высунули из-под чоургына в шатер яранги. Глотнув свежего воздуха, он застонал, не в силах понять, что с ним происходит. Его опять вволокли в полог. Мигало, едва не угасая, пламя светильника, шевелились тени от голов главных людей тундры.