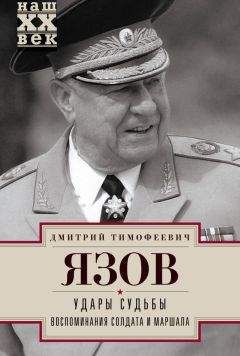Николай Горбачев - Ударная сила
Злость знакомо, холодком вступала в ноги капитана: когда он злится, всегда холодит — не сердце, не голову, именно ноги. Вернуться? А вдруг заявишься, а его нет? Подполковник, командир, хоть и инженер, вежлив, не накричит, но побольней получается, когда скажет: «Как же вы, товарищ Карась?» Тут не скажешь: «Карась! Карась!.. А что я могу сделать?» К крикам он, Карась, относится спокойно — всяких повидал командиров, сам учился «горлом брать», а тут что Фурашов, что замполит Моренов, будто — как его там? — в салон или будуар попал, все у них вежливо, интеллигентно, а не по себе...
И вообще, как думал капитан, что-то не так и не то получается сейчас в армии, в родном для него доме. За двадцать лет такое тревожное, сосущее чувство — устойчивое, неотступное, с которым встает и ложится, — вселилось в него впервые. А что происходило? И почему? Понять, осмыслить все он не мог, и эта смутность точила, как затяжная болячка. То ли дело были времена — он тогда до войны ходил в старшинах — все держалось на них, младших командирах. Их боялись... А без боязни какая дисциплина! Внешняя стать, голос, умение «снять стружку» — киты командирской науки. От этого никуда не уйдешь. Какой же это командир, если не распушит, не снимет стружку, не накрутит хвоста? Чего греха таить, он, Карась, да и его товарищи считали такое умение высшим назначением и сами в меру учились ему, и особо лестной похвалой звучало у них: «О, этот даст разгон так даст!» А сейчас? С каждым панькаются, подходы ищут... Офицеры вон с утра до вечера с солдатами, одно и то же делают: прозвонка схем, разводки кабелей, настройка аппаратуры; вместе, глядишь, уткнутся в схему-простыню... Фурашов с Мореновым днюют и чуть ли не ночуют на «пасеке»: учатся, познают! Мол, через полмесяца пожалуют на «луг», тут начнут осваивать... Опять к солдатам, опять рядом с ними! Какая боязнь, дисциплина будет? Откуда возьмется? Панибратство да разгильдяйство разводим, вот и садятся на голову! То ли дело такие, как генерал Василин! Этот, бывало, нагрянет, даст разгон так разгон, — от приезда до приезда потом помнили.
Для капитана Карася генерал Василин известен: сколько жить будет, столько и помнить будет. Тот случай особенно. Тогда он, Карась, лейтенантом был, война еще шла.
...Вечером синоптики сообщили на зенитную батарею: ожидается сильный ветер, и, как водится, сразу команда — укрепить дальномерные линейки! У Карася свои правила: встал рано утром — и на позицию. Только вышел из домика, еще к позиции не дошел, подкатил газик. Увидел Василина и офицера с фотоаппаратами — екнуло сердце.
— Вот с фотокорреспондентом... Будет фотографировать. В газету. Показывайте вашу отличную батарею.
На позиции генерал направился сразу к дальномерной линейке. И тут Карась обмер: ржавая и толстая проволока опутывала треногу дальномера, даже прокладки не проложены, концы проволоки примотаны к кольям, небрежно вбитым в землю. Ни жив ни мертв, только успел подумать: «Сейчас...» Василин, будто на ходулях, крутнулся, лицо серое, нижняя губа дернулась.
— Артисты! Циркачи! В газету фотографировать? В «Крокодил» их! Веник комбату в руку — и вот тут, у дальномера!
Василин сел в машину и уехал.
Не появились тогда фотографии ни в окружной газете, ни в «Крокодиле», но строгача он схватил. И ничего! Не тесто, не раскис, а Василин еще уважения себе прибавил!
А теперь? Солдаты? Молодые офицеры? Бойкова взять или его дружка Гладышева... Ни почитания старших, ни страха — во всем сами с усами. Из пеленок только, еще почем фунт лиха не знают, а туда же. Умные! Конечно, всякие там схемы-пересхемы «разукрасят», распишут, что делается в аппаратуре.
Нет, все не то и все не так! Война?.. На ее счет? Но уже минуло девять лет. Не-ет, вожжи подотпустили, а теперь поди тяни, когда вразнос пошло!
— Куда, товарищ капитан?
Только тут, после вопроса шофера, Карась увидел: въезжали в Акулино, дома открылись внезапно, за поворотом дороги.
«Ишь ты! Товарищ капитан! — вскользь подумал Карась о шофере, которого держал, не в пример другим начальникам, в строгости, без панибратства. — У меня не сядешь на голову». И, мягчея самую малость и оттого, что уловил в интонации шофера уважительность, и оттого, что не хотел проявить резкость в присутствии лейтенанта Бойкова и показаться слишком убитым — не нашли, мол, Метельникова, оттого злой, — Карась шевельнул шершавым языком:
— Давайте... к сельсовету.
2
Вернувшись с «луга» в штаб, Фурашов спросил у встретившего его дежурного по части, приехал ли капитан Карась, и, получив отрицательный ответ, пошел прохладным сумеречно-затемненным коридором. В середине коридора просторная, огороженная барьером ниша: место для будущего знамени части и часового. Знамени не было, пока пусто, только в центре ниши возвышалась деревянная, крашенная в красный цвет тумба, и на ней уже стоял плексигласовый прозрачный конус — пенал для будущего знамени, подарок от лаборатории Сергея Умнова. Дело было еще тогда, в начале зимы, когда на «пасеке» начались первые отладки аппаратуры, тогда приехал Сергей Умнов и, увидев пустую нишу в штабе, сказал: «Сделаем тебе красивый пенал! Первая ракетная часть, первый объект... Пенал из плексигласа, как?» Фурашов попробовал искренне отговорить его: «У тебя дел других хватает... Зачем утруждаться еще?» — «Э, к тысяче больших забот одна маленькая — только развлечение!»
И сделали, привезли. «Что ж, знамени еще нет, значит, фактически нет части, а неприятностей хоть отбавляй!» — берясь за ручку двери кабинета, невесело подумал Фурашов. Его удручало отсутствие Карася: прошла целая ночь, вот уже полдня, а капитана все нет.
Настроение подпортило и другое: полдня он провел на «лугу», увидел кое-что, и это невольно привело его в раздражение. Ничего, конечно, страшного не было, отладка идет нормально, но как в «недотянутом» оркестре: вроде все хорошо, но то там, то тут музыканты сфальшивят, всего чуть-чуть, самую малость, ее не все уловят и отметят, порой даже сами оркестранты, но она есть, и от этого никуда не уйдешь.
Мелочи... Там не затянули на лебедке гайку, там точечками веснушек на оборудовании появилась коррозия, там забарахлило реле...
Сравнение пришло на ум кстати. Верно, как в оркестре: каждый инструмент главный, каждый первый, но только вместе, а не порознь создают музыку, гармонию. Он, Фурашов, думал над будущим «Катуни», представлял: готовность такого оружия к действию тоже, как в оркестре, зависит абсолютно от каждого номера, от каждого члена коллектива, от того, как он выполнит свою маленькую или большую роль в исполняемой симфонии, но симфонии особой... Есть ли тут маленькие, большие роли? Вряд ли. Промашка, нерадивость одного человека могут обернуться бедой всего коллектива. Выходит, это высшая коллективность? Можно представить: в стрелковом батальоне солдат не почистил свой автомат, не подготовил его к бою, и автомат отказал в атаке... Что ж, от этого бой, вероятнее всего, не будет проигран. Было же! Например, под Зееловскими высотами. Тогда не автомат вышел из строя, а он, Фурашов, но бой не был проигран. Конечно, пример не ахти как удачен... Но тут другое! Придет время, вот закончатся госиспытания, и ты, Фурашов, встанешь рядом со всеми у «Катуни» — это твое оружие, — встанешь против самолетов. Пусть даже против одного. Но он, тот один, может когда-нибудь оказаться с атомной бомбой... Тут-то и особенность! Значит, допусти хоть маленькую скидку в готовности — не проделай каждый на своем месте точно, скрупулезно проверку ракеты и аппаратуры перед таким боем, не выставь во время регламентных работ хоть один из многих параметров в допуск — и... атомная бомба не пуля, не снаряд... Вот и думай, какие вокруг тебя люди. Едины ли? Понимают ли все это так же? Коллективность... Сама она не приходит, ее надо воспитывать, лелеять...
Он собрал офицеров, прямо там, на «лугу», на боковой бетонке, все это и выложил; слушали внимательно, с пониманием, лишь зампотех Русаков, когда Фурашов закончил, подал реплику не реплику, вроде раздумывал вслух: «Так ведь когда она еще, готовность-то? Улита едет...»
Фурашов почувствовал — подвох. Если не сломить его, не нейтрализовать, то, считай, насмарку твои слова. Подумал: «А вот найти поддержку у них, у офицеров...»
— Как думаете, товарищи, когда начнется готовность? Я думаю, она уже началась, началась с момента развертывания наших установок...
Ответили дружно:
— Верно! Правильно! Согласны, товарищ подполковник!
Фурашов пригласил Русакова, и они вместе снова обошли все установки, — зампотех хоть и хмуро, без удовольствия, но делал пометки в блокноте.
На выходе с «луга» Фурашов остановился, оглядел старшего инженер-лейтенанта — пятнисто-выцветшая шерстяная гимнастерка, на сапогах въевшаяся пыль, оплывшие, морщинистые поля фуражки, — сказал:
— По замечаниям примите меры... И договоримся, Аркадий Николаевич, в таком виде вы больше не будете появляться на службе. Офицер, инженер — интеллигенция армии.