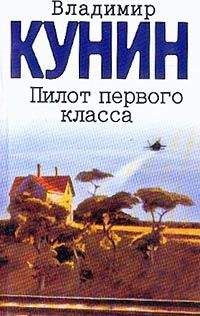Римма Коваленко - Конвейер
— Этот магазин, я думаю, устроили для тех, — говорит полная женщина с приметной прической: будто на голову ей поставили двухлитровую стеклянную банку и обернули волосами, — у которых бешеные деньги… Салон. — Она изрекает последнее слово, как ругательство, и направляется к двери.
— Я домой хочу, — тянет меня к этой двери Енька и смотрит снизу вверх серыми хмурыми глазами. — Я к маме хочу.
Женщина с банкой на голове возвращается, подходит к прилавку.
— Почему же так дорого? — спрашивает она молоденькую, с обиженным лицом продавщицу.
— Это оригинал, — отвечает продавщица, — художественное произведение. А вы купите себе петуха, они тиражированы, три рубля штука.
Она выходит из-за прилавка, глядеть на нас больше не может. Белый воротничок, голубой фирменный халатик. Тоже чья-то дочка. Идет по своему магазину, заставленному и увешанному произведениями искусства, и я боюсь оторвать от нее взгляд, боюсь увидеть на полке, в середине шелковых изделий, знакомые краски Томкиных платков.
В магазине пусто. Я иду за девушкой в голубом халатике, тащу за руку Еньку и вдруг вижу в центре салона, на левой стене, Томкины платки. Но это не платки. Это Матрена расселась тут со своим самоваром и глядит, как владычица мира, на меня и Еньку.
Только сейчас я понимаю, что хоровод маленьких матрешек вокруг блюдца — ее дети.
— Но почему все, что увидел, надо непременно купить? — продавщица говорит эти слова не мне, а женщине с банкой на голове, которая стоит вдали, у прилавка, и не слышит ее слов. — Можно ведь просто зайти и посмотреть.
— Как странно вы рассуждаете, — удивляюсь я, — это же магазин. Или у вас нет плана?
— Есть, — отвечает она, — без плана нельзя. Только вы напрасно беспокоитесь. — Всё это купят. — И она смотрит на женщину у прилавка.
Енька поднял голову, уставился на Матрену. Голос его звучит громко, на весь салон:
— Баба, забери ее отсюда.
Я дергаю его за руку, хочу объяснить продавщице, что эти платки нарисовала моя дочь, мама этого мальчика, но ничего не объясняю: продавщица смотрит на меня, и подбородок ее дрожит от смеха.
— Баба, забери. Она хочет домой, — повторяет Енька.
Женщина с банкой на голове отрывается от прилавка и решительным шагом направляется к нам.
— Я беру, — говорит она, и Матрена от ее голоса начинает качать головой. И пол подо мной тоже качается. — Я беру это. Вам платить?
Енька дергает мою руку: «Баба, забери», а я, с ужасом думая, что после такси в сумке осталось всего рубль с мелочью, опережая ответ продавщицы, говорю женщине:
— Вы опоздали. Уже продано. Это уже продано.
Жизнеописание пенсионера Цыплакова зажилось у меня в кабинете. Несколько вечеров подряд я читала его, потом отправила в отдел с пометкой: «Восполнение». Это слово означает, что Цыплаков, рассказывая о себе, привел много живых неизвестных деталей, касающихся времени и жизни известных людей.
Я читала исповедь Цыплакова после работы, включив настольную лампу, переживая его длинную, невероятную на поворотах жизнь, как свою. С первых строк: «Я появился на свет в 1898 году, благодаря матери Евгении и отца Ивана», я поверила в правду каждого его слова. В один из таких вечеров телефонный звонок оторвал меня от выведенных старческой рукой, дрожащих строчек.
Звонила Дарья.
— Сестрица, это я. Да что же это за работа у тебя такая окаянная, ночь скоро, а ты про свой дом забыла.
— Помню я свой дом, — ответила, я, радуясь, что Дарья приехала и мы с ней сейчас увидимся, — и сегодняшний дом, и тот, который мы с тобой искали. Помнишь, как ползали по чужим огородам: «У вас не сдается комната?»
— Иди домой, — оборвала мои воспоминания Дарья, — дитя рыдает, спать не хочет, а бабка на работе прячется.
— У него родители есть.
— Родители убежали. Напоили меня чаем и сбежали. Да если б у меня был внук, Рэма, я бы нигде секунды не задержалась. Не понимаешь своего счастья, сестрица.
— Зато ты сразу поняла. То-то и дождаться меня не можешь, звонишь. Дай ему трубку…
А потом, через полгода, был звонок от Мити.
— Римма Михайловна, мне надо вам все рассказать.
— Рассказывай.
— По телефону нельзя. Я вас буду ждать в сквере возле базара. Когда вы придете?
— У нас в городе три базара, Митя. Какой ты имеешь в виду?
Мы встретились в сквере, возле центрального рынка, сели на скамейку. Мимо нас туда и сюда шли люди. Одни молчали, другие разговаривали, а кто-то нес свою думу. Митя сидел на скамейке и глядел в землю. Наконец сказал:
— Я женился. На Таньке. У нас будет ребенок.
— Кто такая Танька?
— Татьяна. Мы учились с ней в школе. Потом поехали вместе поступать в училище. Я поступил, а она нет. — Митя замолк.
— А потом она поступила? — спросила я.
— Потом? Да. На следующий год.
— Не на следующий, — рассердилась я, — а через два года, с третьего захода.
Митя не удивился моему знанию, не спросил, откуда я знаю Таньку.
— Как все получается, — сказал он, — даже трудно поверить.
— А ты все-таки верь, — ответила я ему. — Ты же знаешь, что в жизни ничего легкого нет, все трудно.
Недавно пришло письмо от мамы:
«Рэма! Я так волнуюсь с этим письмом, что ты вряд ли поймешь меня. Но надо, чтобы ты поняла правильно. Делать ничего не надо. Почему, я тебе объясню. Рэма, Владимир Коваленок, который летает сейчас в космосе, твой троюродный брат. Все совпадает: и деревня, и район, и отчество. У твоего родного отца был брат, а у того сын Василий. А Владимир — это, наверное, и есть сын этого Василия. Можно было бы разузнать точно, но нельзя. Получится, что жили столько лет, не искали никого, а как только один родственник высоко взлетел, прославился, тут откуда ни возьмись все, как мухи, и налетели. Так что ты не лезь в это дело, но знай: хоть умер твой отец давно, но фамилия его не пропала. А у Владимира Коваленка сейчас весь мир родня. Пусть летает».
Конвейер
Глава первая
Это был на вид такой бедолага, что представить его молодоженом, да еще, как он писал ей, «счастливым на склоне своей почти старой жизни», не хватало души. Приехал — и вешай его на шею. Поселяй где хочешь. Не будь этой загвоздки с ночлегом, Татьяна Сергеевна по-другому слушала бы его историю, не отвлекалась мыслями: где же тебя и как на ночь пристроить? Смущал муж, который еще не пришел с работы. Как он отнесется к незваному гостю? И вообще их дом не был приспособлен к длительному вторжению посторонних: удобное жилье, просторное, но на двоих. Когда жили с дочерью, казалось, что есть запасные одеяла, подушки, а снарядили ей приданое — и осталось всего в обрез.
Гость сидел на кухне истуканом. Чай остыл — не притронулся. Печенье надкусил — поперхнулся, закашлялся. Говорил, как в гору воз тянул. Не знай заранее Татьяна Сергеевна его историю, ничего бы не поняла.
— Может быть, вы курите? — спросила она. — Так курите, не стесняйтесь. У меня муж курит. И дочка, когда приезжает, курит. Старается, конечно, на глаза мне не попадаться.
Он достал из кармана пачку смятого «Дымка». Вытащил сигарету, роняя на стол крошки табака. Рука с сигаретой ходила ходуном. «Уж не пьянь ли ты горькая? — подумала хозяйка. — Тогда совсем дела твои плохи». Но глаза гостя источали из омута морщин незамутненную голубизну и зрачок был явственный, запятой, отчего взгляд не вязался с поникшим видом, был цепким и «вострым». И вообще он не выглядел пьющим. Зубы белые, свои, шея задубелая, крепкая, да и волос на голове еще вполне прилично, русых, с проседью. А что морщин многовато вокруг глаз, так и у Лильки его то же самое с годами будет. Такое уж строение лица, такая порода.
Лилька и знать не знает, что отец в городе. Но если бы и знала, что толку — в общежитие его к ней на ночь не пустят.
— Я, Татьяна Сергеевна, только теперь понял, что детей никогда не вырастишь. Большие, отделяются, а все горбом на родительской жизни торчат…
Успокоился немного, закурил, руку с сигаретой другой рукой схватил. Сжал ладонью запястье и держит, не дает руке дергаться.
Заскрипел ключ в замке. Вернулся с работы муж, Лавр Прокофьевич. В коридоре, увидев чемодан, почуяв дым, пробившийся из кухни, крикнул, веселым голосом:
— Меня дожидается кто? Или просто гость?
— Гость, гость, — откликнулась Татьяна Сергеевна, — Лили Караваевой отец приехал. — И подумала: теперь все пойдет наперекосяк. Лаврик вытащит чекушку, за ней вторую — гость же! — и пойдет кружить вокруг него. Окутает заботой, заморочит гостю голову, что тот и забудет, зачем приезжал.
Может оставить их вдвоем да пойти ночевать к Наталье? Лет десять назад так бы и сделала. Но теперь с Натальей уже не та дружба. Позвонишь, а она в ответ: «Ой, я стираю». Застиралась, бедная, замылась. А уж если не стирает, то жди приглашения: «Пошли подышим воздухом». — «А я круглые сутки, даже когда сплю, дышу воздухом», — ответит ей Татьяна Сергеевна, и Наталья рассмеется. Что и осталось в ней от прежней, так это смех. Закрой глаза — и опять молодость. Наталья смеется. Конвейер ползет, плечи гудят, как железо нагретое, мастер к Наталье со всех ног бежит: «Ты что? Припадочная? Пайку запорешь!» А Наталья заливается.