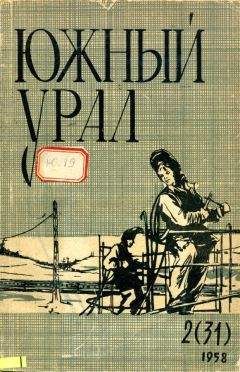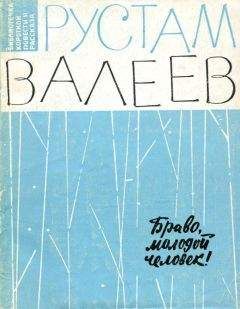Рустам Валеев - Земля городов
Пронесло — так мы думали с матерью, потому что, пролежав с неделю, я пошел в школу и не болел до самых Октябрьских праздников. Но кашель не оставлял меня окончательно. А на демонстрации я простудился опять и залег теперь уже надолго, с двусторонним воспалением легких.
5
Четыре протяжных зимних месяца то с резкими морозами, то внезапной оттепелью просидел я дома, поглощая самые разнообразные книги, какие только находились дома, и вдобавок те, что носила мама из библиотеки. Учебники были ненавистны. Если, роясь в груде книг, я схватывал ненароком учебник, уже одно это приводило меня в истерику. Учебники жесточе всего напоминали о прекрасных недолгих днях, которые я счастливо провел с ребятами в школе.
Ребята потихоньку оставляли меня. Коля учился не с нами, жил далеко, так что он вскоре совсем исчез из виду. Алеша продолжал ходить, но, кажется, и нам суждено было отдалиться друг от друга: я оставался на второй год в восьмом классе.
Весной мои родители стали заговаривать о поездке в Крым, но я и слышать не хотел, и наконец они решили ехать вдвоем, а меня отправить в Маленький Город.
В середине мая за мной приехала бабушка. Родители должны были ехать в дом отдыха неделей позже. Они провожали нас с бабушкой. Отчим помог бабушке взобраться по ступенькам в тамбур, провел в вагон и нашел нам место. Мама окликала меня, пока я шел за бабушкой и отчимом, окликала робко, с грустными и безнадежными интонациями, а я только задерживал шаги, чтобы продлить мстительное наслаждение слышать ее кроткий, покаянный голос. Они так легко согласились оставить меня!
Когда поезд тронулся, бабушка подошла к окну. Я выглянул из-за ее плеча и увидел их, идущих по перрону вслед движущемуся поезду. Они шли, будто их тянули вперед, вниз, к серой тверди бетонки, их собственные тени. Потом они отстали, разом остановившись, и как-то стыдливо взялись за руки. И тут мне стало так жалко их, что я чуть не заревел. Я чувствовал себя куда богаче и тверже, чем они, у меня была моя бабушка, которую я любил без памяти, и она меня любила, и мы никогда не ссорились, не знали взаимного отчуждения.
Мы приехали в городок в полдень. Бабушка, приложив руку козырьком ко лбу, оглядела привокзальную площадь и едва заметно ухмыльнулась. Она, пожалуй, выглядывала отца. Потом мы сели в автобус и поехали по колдобинам узких улиц, в окна резкими порывами залетала пыль и запахи цветущей сирени, ветки желтых акаций скреблись в стекла, точно кистью смазывая яркую суматоху в автобусе; но когда отлетала их мимолетная тень, в автобусе становилось еще ярче. Я вспомнил, как прошлой осенью мы с Алешей и его тетей возвращались с вокзала. И подумал: у Алеши есть его тетя, а у меня бабушка.
И вот мы входим в наш двор, и отец сбегает с крыльца, широко раскинув руки, и забирает в объятия бабушку. Потом он схватывает меня под мышки, вскидывает над широким восторженным лицом, и я успеваю заметить скоротечное изумление на нем: видно, отца удивило, какой я легкий. Билял и Апуш стоят поодаль и со сдержанным любопытством наблюдают за нами. Отец, слегка помешкав, подталкивает меня к братьям. Я подхожу к ним и здороваюсь. Апуш хихикает, дружелюбно пхает меня в живот кулаком и говорит:
— Ну и долго же тебя не было, стерва!
— Мы тебя ох и ждали, — смущенно признается Билял. — А я уже в омуте купался.
Оглянувшись на покашливание отца, я вижу его хмурый взгляд.
— Ну, вы! — говорит он мальчишкам. — Смотрите у меня! А этому Апушу не мешало бы язык укоротить.
— А что я такого сказал, — с наглой наивностью говорит Апуш. — Ты и сам иногда такое завернешь…
— Ну, вы!.. — опять он говорит.
И вот потекли день за днем, теплые, как вода на июньских плесах, пахучие, цветные, с некоторой пока еще приятной оскоминой от постоянной нежности отца.
Вот утро, я стою в майке, в сандалиях на босу ногу у стены клети, где уже раздвинут туманец утра и солнышко потихоньку пригревает, от акаций, осыпанных росой, летит прохлада — я стою и вижу в просвете между кустами, как выходит на крыльцо отец и окликает меня глуховатым от нежности голосом. Но я молчу. Опять он зовет, и уже по голосу заметно, что он увидел меня. Наконец оба вскрикиваем с хохотом, он хватает меня за руки, тормошит и ведет со двора.
— Купаться, купаться! — смеется он.
На берегу дедушка поит коня. Гнедой напился, но еще медлит над водой, сбрасывая с губ звенящие яркостью капли, и копыта его от долгого стояния погружены в мокрый песок. Гнедой тихо ржет, отец треплет его за холку и предлагает дедушке искупать коня. Дедушка протягивает повод, и отец начинает поспешно раздеваться, не выпуская уздечки из руки. По мере того как одежды слетают с него, я все круче отворачиваюсь. Оглянувшись через минуту, я вижу его, голого, верхом, он медленно направляет гнедого в воду. Почти до середины реки коняга идет, бухая копытами, затем оба враз погружаются так, что только голова гнедого вскинута над матовым надводным туманцем.
Поплавав, отец возвращается на берег и спрыгивает с коня. Мокрый торс коняги блестит на солнце, судорогой мышц он стряхивает веер брызг. И вдруг коняга кажется мне голым. Он знает свою прекрасную наготу, каждая мышца в нем напряжена и играет горделивой радостью, он подбирает поджарое брюхо, и между массивными светящимися бедрами вздрагивает загадочной и стыдной чернотой бугорок.
Я захожу по колена в воду и умываюсь из ладоней. Галька шевелится под моими ступнями, щекочет, вода обтекает ноги, заставляя трепетать все тело и требуя моей наготы. Но я пугаюсь студеного прикосновения и выскакиваю на берег. Я вижу, как дедушка уводит коня вверх по горе, и на влажном крупе коняги играют солнечные блики. А мы с отцом идем ниже по течению до брода, переходим на противоположный берег и шагаем дорогой, на которой пыль еще прохладна и тяжела, из канавок торчат плотные кустики типчака, стебли которого на взгляд зеркально гладки и только пальцам доступна их шероховатость. Типчак ни за что не вырвать из плотной, почти закаменевшей почвы, но можно присесть над ним и долго следить, как по длинным извилистым листьям с глубокими продольными полосками пульсирует вроде бы изнутри, а на самом деле поверху, по невидимым глазу шероховатостям солнечный свет.
Мятлик клонит к тебе пирамидальную метелку, узкие, еще у́же к верху долгие листочки с притупленным у окончания язычком покачиваются не от ветерка, нет, а словно бы от движения роста соседних трав…
От запахов покруживалась голова. Я хмелел, уставал, и отец подымал меня на руки и нес, я близко видел его запрокинутое загорелое лицо с брожением густого румянца под крепкой кожей, его рассредоточенный от нежности взгляд, обращенный в никуда или, может быть, только в небо. Я не считал зазорным покоиться на его руках, а он, исполненный ласки, и подавно не замечал, что я уже не ребенок.
Через каждые два дня бабушка запрягала гнедого, и мы ехали в колхоз за кумысом. Я ложился навзничь на телегу, белые, с синевой, облака покрывали меня, со всех сторон обтекал теплый воздух, и время отдавалось мне щедро, неизбывно, не тормоша суетой и спешкой. Я был ленив и добр, только плакал иногда от такого обилия времени, от полноты покоя и безмятежности — и уставал, усталость возвращала меня в реальные границы бытия, я слегка приподымал голову и просил:
— Бабушка, расскажи.
Бабушка оборачивалась и кивала мне с улыбкой. Она рассказывала о девочке Нафисэ, которая шла чистым полем и несла в узелке еду, кажется, родителям, работающим в поле. И какая-то беда ждала девочку. Вот идет она, а птаха спрашивает: «А куда ты идешь, Нафисэ, а куда ты спешишь?» — а девочка отвечала: «А иду я к воде, где играет камыш». А птаха всезнающая: «Не туда ты идешь, где играет камыш. А на гибель, на гибель свою ты спешишь». Нафисэ между тем продолжает путь, и то одна, то другая птаха спрашивает ее, и девочка отвечает им. Вопросы и ответы бабушка пропевала много раз.
Помню, и прежде, когда я был совсем маленький, бабушка просто, обыкновенно рассказывала и пела суровые сказания и с той же обыкновенностью преподносила лихие житейские истории, в которых смерть была одним из действующих лиц, не более. Смерть вознаграждала обиженного, смерть восстанавливала честь семьи, смерть наказывала нечестивца или злодея, смерть помогала выявить в прежде незаметном и неприятном человеке какие-то добрые качества. И образ девочки Нафисэ, которая шла на верную гибель, делал все вокруг ближе, дороже, возвышалась цена такой вот чистой душе, какой была Нафисэ, цена всему живому, тебе самому, слушающему рассказ о ней.
Отношение к смерти в городке было не то чтобы легким, а трезвым, что ли. К старикам, по-моему, жалости как таковой вообще не существовало. Смерть была итогом, поводом, чтобы оглядеть его жизнь и сказать о ней оценочные слова. Не жалели и младенца — он, во-первых, ушел безгрешным, во-вторых, он взял так мало родительских трудов. Но жалели подростка: иное дело, если бы умер младенцем, а то ведь ему было уже четырнадцать, или пятнадцать, или шестнадцать лет.