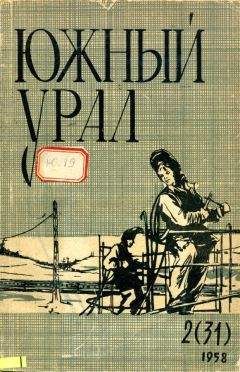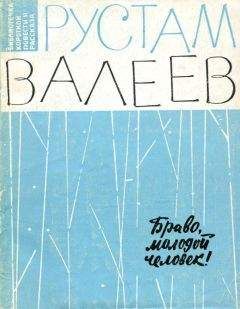Рустам Валеев - Земля городов
Птицу Самрух бабушка укрепила на стене сеновала. Птица глядела с высоты, как ангел, как бы зовя всех нас в объятия широких крыл: объединитесь, живите в мире и согласии!
4
Кончилось лето, я вернулся в Челябинск, в новую квартиру в пятиэтажном шлакоблочном доме невдалеке от прежнего нашего жилища. Коля Бурбак с матерью, сестренкой и отцом (Дарья Стахеевна вскоре же, как переехали, умерла) жили теперь в Никольском поселке, в особняке, из которого выехали с окончанием войны две семьи херсонцев.
Кончилось лето, мы с Алешей Салтыковым идем в восьмой класс в новую, среднюю, школу. Поговаривают, что раздельному обучению пришел конец, и я угнетен тем, что мы будем учиться с девчонками. Я худ и бледен, почти с ужасом представляю себе картину, как нам в школе делают прививку и моя соседка по парте говорит: «А ну, покажи!» — и бесцеремонно задирает мне рукав, а под рукавом на внутренней стороне узкой бледной кисти вспух волдырь. «Положительная реакция на прививку Пирке, — говорит моя соседка. — А погляди у меня, ничуть не вспухло». И она брезгливо отодвигается, отворачивает лицо, чтобы ее не коснулось мое отравленное бациллами дыхание. Но пока что до подобных страхов три или четыре дня, и мы с Алешей с утра до вечера вместе.
Алеша угощает меня папиросами «Герцеговина Флор».
— Мачеха где-то купила, говорит: подари папе в день рождения. Я, конечно, не стал дарить.
Мы закуриваем толстые папиросы со сладковатым дымом, застревающим в горле.
— Я и тетю угощаю, — продолжает Алеша. — Она стала курить, с тех пор как у нее шпиц помер. Дохлый был песик, а тетя говорит: от нервного потрясения помер, то есть от того, что мачеха у нас появилась.
— А как ты ее называешь?
— Я ее называю Вы, Отец называет Ты, а тетя… не знаю. Но я ничего против Веры Георгиевны не имею. Я даже мог бы ее полюбить, если бы она родила. Знаешь, как хочется брата или сестренку! Честное слово, я возился бы с ней все дни! Наверно, после Нового года она родит, у нее вот уже какой живот, как у твоей матери.
— У моей ма…тери? Ты сказал?..
Алеша покачал головой:
— С девчонками и то легче, чем с тобой. Впрочем, извини. Я говорю только о своей мачехе.
У моей матери… Да, я ведь и сам что-то такое замечал — что отчим обращается с нею как-то особенно, словно боясь даже голосом потревожить в ней ее покой, округлость ее покоя, тихую, миротворческую влажность ее бархатных глаз. Я сразу же заметил, как только приехал из городка, но только постарался тут же забыть.
— Я бы тоже не прочь заиметь брата или там сестренку, — говорю я небрежно. А он (до чего деликатный, думаю я сперва) словно не слышит меня. Он дымит «Герцеговиной Флор» и соображает вслух:
— Я только не знаю, что будет с тетей. Она ни в жизнь не помирится с мачехой. И, знаешь, с ней-то и произойдет нервное потрясение! Отец с ней очень ладил, всегда ее защищал, если мы скандалили. А теперь мы не скандалим, но отец… он совсем не замечает ее страданий.
И тут я вдруг говорю:
— Прости, мне надо домой, — и убегаю, оставив удивленного Алешу. Мне кажется, пока я тут гуляю с Алешей, дома у нас тоже страдает… кто? — отчим? мама? Или все у них хорошо, а страдаю я? Они, наверно, только и говорят что о нем, а на меня им наплевать.
Я вбегаю в квартиру, сердце у меня сильно бьется, лицо горит, я попеременно гляжу то на отчима, то на маму, точно пытаюсь найти разгадку их новых отношений. Но все обычно, просто, и мама с тревогой обо мне говорит:
— Боже, как запарился! Тебе вредно так носиться.
— Мама, ма-ма, — говорю, я с наслаждением, — мама, я давно хочу тебя спросить…
— Ну? — несколько поспешно говорит она. — О чем же ты хочешь спросить, ну?
— Это правда, что мы будем учиться с девчонками?
— Сто восьмая остается мужской, так что не волнуйся.
— Ура-а! — кричу я, и так легко, так хорошо становится у меня на душе. Неужели всего только минуту назад я был взвинчен и встревожен? А ведь все идет как нельзя лучше.
Я съедаю свой ужин, выпиваю молоко и, спокойно, безмятежно глянув на маму и отчима, ухожу к себе в комнату. Развалясь на диване, я читаю «Тамань». Читаю о море и вижу речку Уй, читаю о луне, осветившей скалы, и вижу каменистый берег, ивы, их текучие ветви, как волосы загадочной Ундины. Почему я не встретил в городке ни одной девчонки? Почему у меня не было какой-нибудь случайной романтической встречи?
То ли ночью, то ли уже под утро звонил телефон и что-то сонно отвечала мама.
Я поднимаюсь поздно, мама и отчим громко переговариваются на кухне, пахнет свежим чаем.
— Мама, а кто звонил так рано?
— Наших мальчишек поймали в Кустанае и высадили из поезда. Я же говорила вчера, забыл?
Забыл, она действительно говорила, что из детдома сбежали двое. Я иду на кухню и сажусь за стол. Отчим глуховатым голосом говорит:
— Тебе, я думаю, надо остерегаться пикантных ситуаций.
— Теперь уже просто, — отвечает мама, — поехать и привезти ребят.
— Я поеду с тобой, иначе и заикаться не смей.
— Я тоже поеду, мама!
— Помолчи, — мягко просит мама и так же мягко говорит отчиму: — Это лишне, Зинат, но, если ты настаиваешь…
— Я постараюсь часам… часам… словом, после обеда. Сегодня все должно решиться. Быть или не быть! — значительно, почти торжественно произносит он. Это он уже о своих делах. — Да, сегодня… или мы будем делать машины, или… — он вдруг закатисто смеется: — Или — столовую посуду, ха-ха!
Завтрак протекает спокойно, и спокойно они расстаются: отчим уходит на завод, мама начинает прибирать на кухне. Я сижу в своей комнатке и каждую минуту помню о том, что должен прийти отчим, а там они с мамой поедут в Кустанай. Потом я незаметно задремываю и просыпаюсь от телефонного звонка.
— Позови маму, — просит отчим.
— Маму? Сейчас. — Я зову маму, но ее нет дома. — Ее нет дома. Я спал, я не знаю.
— Вот что, — голос отчима звучит сильно, внушительно, — передай маме, что я не смогу вернуться, как обещал. Передай маме: пусть не едет, пусть ждет меня.
Только я положил трубку, как вошла мама с веником и ковровой дорожкой.
— Что, звонил отец? — Она бросила коврик и веник и принялась звонить. — Успел уехать, молчит телефон. — Она зачем-то протянула трубку к моему уху и тут же положила на рычаг.
— Он сказал, что вернется позже и чтобы ты никуда не уезжала.
— Знаю, знаю, — со смехом ответила мама и повела меня на кухню.
Мы сели обедать, но мама, не доев суп, ушла к себе. Я убрал посуду, потрогал ее тарелку — она еще не успела остыть — и заглянул к маме. Она лежала, укрывшись пледом, и я вышел, тихонько прикрыв дверь.
Не прошло и часа, как я услышал: мама прошла по коридору в домашних туфлях, потом донесся стук каблуков, шуршание плаща. Она стояла на пороге, уже одетая, руки по-мужски сунуты в карманы плаща.
— Я еду. Скажи отцу, что я не одна еду.
— Но ведь ты едешь одна? Возьми меня с собой, мама!..
— Что-о? — почти с угрозой протянула она. Затем подошла ко мне и, не вынимая рук из карманов, чмокнула меня в щеку. — Пока!
Оставшись один, я сел к столу. Я сжимал в руке карандаш и глядел на чистый тетрадный лист. Голова моя туманилась, рука подрагивала, спеша коснуться листа, но я боялся. Мне хотелось написать о чем-то таком, чего со мной не было в городке, не было только по чистой случайности, — о своих приключениях с загадочной девушкой, встреченной на скалах Пугачевской горы. И вдруг я заплакал: я потерял, может быть, лучшее из приключений, оставшись дома! Я несчастлив, а счастливы те, которые вольно, отважно укатили куда глаза глядят, и вся суматоха в детдоме и у нас на квартире — все из-за них!.. Правда, я могу придумать что-нибудь еще удивительнее, мне бы только начать, только одно слово…
Я пошел в библиотеку и просидел там до темноты, читая «Дети капитана Гранта». Я с сожалением закрыл книгу, отметив в памяти страницу, и неохотно протянул ее библиотекарше. Она с улыбкой спросила:
— Не читал прежде?
— Читал. А вы не дадите мне домой почитать?
— Нельзя, — сказала она. — Приходи завтра.
Выйдя из библиотеки, я вдруг почувствовал зверский голод и засмеялся, заспешил домой. Голод гнал меня домой, и это было невыразимо хорошо! Отчим сидел на кухне и ел жареную картошку. Он сощурился на меня и произнес:
— А мама уехала. Ведь так?
— Так. Но честное слово… я говорил ей!
Он хмыкнул:
— Еще бы! — Но он, кажется, был в возвышенном настроении. — Знаешь, что мы теперь будем делать? Бульдозеры, грейдеры и скреперы. А? Чего же ты молчишь?
— Это поинтересней, чем плуги, — сказал я. — Ты сам жарил картошку?
— Сам. Садись ешь. А интересней плугов ничего нет. Но скреперы — тоже неплохо. Ты о чем-то думаешь?
— Ни о чем, — ответил я, словно очнувшись. Я думал о городке, о лопушиных чащах на задворье, скалах Пугачевской горы, песчаных бурях, налетающих на городок. — Ты читал «Тамань»?