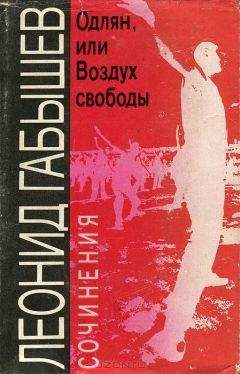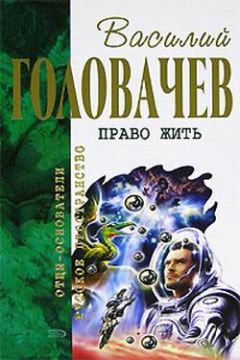Юрий Бондарев - Батальоны просят огня (редакция №1)
– Ничего особенного.
– Что случилось?
– Какой смысл вникать тебе в то, что происходит здесь?
– Да… Но что произошло?.. Он не дал ей договорить:
– Лида, я вызову сейчас машину, и тебя отвезут. Не обижайся, дела. Да, очень срочные дела… – Он обнял ее за плечи, поцеловал в губы, раздумчиво спросил: – Ты понимаешь меня, конечно?
Она сказала:
– Я так давно тебя не видела.
– Лида, извини, пожалуйста. Лейтенант Катков, машину Лидии Андреевне! – крикнул он через стену адъютанту.
– Ты очень торопишься, – сказала она обиженно. – Я же только приехала.
– Извини, пожалуйста. Я виноват… извини меня. Сейчас я не могу тебе все объяснить…
Потом он опять ходил по комнате и теперь жалел, что напрасно отправил жену, которую он не часто видел и которая полтора месяца назад перевелась в медсанбат дивизии с Белорусского фронта. Но все, что произошло, мучительно давило, угнетало его тем, что именно в этот вечер она была здесь и, вероятно, слышала все.
Шел дождь, было сыро в комнате, за окном сумеречно; уныло отсвечивали поникшие кусты в палисаднике, и на крышу, шумя по-осеннему, наваливались ветви сосен.
Пытаясь неопровержимой логикой рассуждений успокоить себя, он думал, что этому артиллерийскому офицеру, видевшему гибель батальона, еще трудно было понять, какое значение в общей операции армии под Днепровом приобретали бои в Ново-Михайловке и Белохатке. Что ж, за этим офицером стояла своя правда ответственности за гибель батальона; за ним же, Иверзевым, стояла еще большая правда ответственности за всю дивизию. И эта стойкость батальонов Бульбанюка и Максимова была для него, и не только для него, лишь шагом к Днепрову, маневром, который должен был в определенной степени обеспечить успех операции. Он знал, что завтра решится все…
Но эта, казалось, последовательная логика доводов не сумела успокоить Иверзева. Ему было хорошо известно, что офицеры не любили его, однако, даже сейчас, это его не задевало. Он считал, что не обязан внушать любовь к себе, а был обязан заставлять подчиненных выполнять свою волю. И поэтому он не мог простить капитана Ермакова; Иверзев знал также, что в случае неудачи, в которую не верил, будут искать виновных, а они должны быть, как бы он ни не хотел этого.
Шагая в раздумье по комнате, Иверзев позвал повелительно:
– Лейтенант Катков!
Всем видом выказывая почтительное участие, вошел адъютант, смиренно наклонил гладко причесанную голову Иверзев сказал:
– Лейтенант Катков, вызовите ко мне майора Семынина и двух автоматчиков.
– Так точно, товарищ полковник, прекрасно понял. Смотрите, как он, а? Наглец…
– Не вам судить, лейтенант Катков! – властно оборвал Иверзев. – Вы свободны. Еще раз предупредить Алексеева и Савельева: на наблюдательный пункт выезжаем в два часа ночи.
– Слушаюсь.
Адъютант закрыл за собой дверь.
Глава семнадцатая
Всю дорогу до Городинска они не проронили ни слова; по разъезженному проселку, по вспыхивающим в свете фар лужам, в колеях, не переставая, сек дождь, летел навстречу косыми трассами.
На окраине села полковник Гуляев приказал остановить машину и тут на околице нашел свободную, без солдат, хату, затем скомандовал коротко:
– Идем!
Ермаков, ничего не ответив, пошел за ним. Полковник потоптался на пороге чистенькой, подметенной комнаты с бумажными занавесками на окнах, мрачно насупил широкие брови, заговорил:
– За такие штуки полагается тебя под суд, понял? Заварил кашу, ведром не расхлебаешь! Ну а дальше что?
– Уж если заварил, так буду расхлебывать до конца, – сказал Ермаков, бросая фуражку на стол. – Пока вот здесь, в горле, не встанет.
– Ты головой думаешь?
– Думаю, что есть такие, которые надеются: Россия большая, людей много. Что там, важно ли, погибла сотня или тысяча людей!
Полковник Гуляев промолчал – с козырька капало – и, заметив, как снимал Ермаков свою покорябанную планшетку и чью-то тяжелую полевую сумку, отвернулся.
– Мы с тобой как родные, от Сталинграда шли, – проговорил он. – Ты как сын мне… Но позволь сказать, хотя я тебя и люблю: ты глупец! Держать всегда надо себя, в руках держать. – И, опустив глаза, сдавленно договорил: – Ты офицер и должен правильно меня понять. Иначе, голубушка, дышать нельзя!
– Давайте помолчим, полковник.
– Так вот, мальчишка! – грубовато сказал Гуляев. – Сейчас я в полк к Денисову. Узнаю, что с формировкой. К ночи заеду. А ты, зяблик стоеросовый, считай себя под домашним арестом! Все понял?
Дождь порывистым набегом шумел по кровле, звенел по мутному, в потеках оконцу, за которым косо рябило под ветром лужи, где, плавая, мокли тополиные листья. Ермаков на секунду увидел сквозь мелькавшую водянистую сеть, как неуклюже втиснулся полковник в «виллис», как машина тронулась, выдавливая колеи на мокрой траве за окном, и горькая нежность к Гуляеву шевельнулась в душе его.
– Хозяйка, можно ли горячей воды? А впрочем, и холодная сойдет.
Хозяйка, темноволосая женщина, статная для своих уже немолодых лет, аккуратная, крепконогая, мягко излучая из глубины прозрачных глаз ласковый свет, пропела звучно:
– Холодной? Обдеретесь весь. Вон яка щетина у вас. Мой чоловик холодной не брився… Разве жалко воды?
– А муж где же? Воюет?
– Где же ему быть? С сорок первого року. Може, и неживой уже. – Хозяйка всхлипнула, ноздри дрогнули; из-под ситцевой косынки трогательно белела по-девичьи ровная ниточка пробора.
– Ну, не стоит, не надо это, слезы никогда не облегчают, – заговорил Ермаков, и ему захотелось успокоить ее, погладить по волосам возле этого жалко-аккуратного пробора. – Ну что же плакать? Война кончится, все станет ясным. – И тронул ее горячее круглое плечо. – Ведь всему бывает конец…
Она не отстранилась, только прерывистым вздохом высоко подняла грудь, сказала:
– Когда ж она кончится? Закрутила она весь свет, як цыган солнце!
– Да, закрутила, – задумчиво согласился Ермаков. – Всех…
Она как-то влажно смотрела сквозь смокшиеся ресницы, и он спросил почти родственно:
– Трудно одной?
– Ой, как лихо, – прошептала она и, закрыв глаза, покачала головой.
Бреясь, он глядел в потускневшее зеркало на свое исхудавшее лицо, от которого за эти дни отвык, и не узнавал, иногда видел, как входила и выходила хозяйка, ловил внимательные взгляды украдкой и с нежной жалостью к ней, к неизвестной, одинокой жизни ее думал: «Если бы месяц назад…».
Тот знакомый и незнакомый человек в зеркале, задержав помазок на намыленной щеке, смотрел грустно, непрощающе.
Он чувствовал, что остыл, что выжглось что-то в нем, опустело и не хватало той прежней энергии, той силы, что не сдерживала его прежде. Он подумал о Шуре, о ее стыдливых и исступленных губах в первую ночь в землянке и вспомнил о том, как она обнимала его и будто не хотела этой близости. «Нет, ты не любишь меня, не жалеешь совсем. Тебе нехорошо со мной. Ну скажи честно!» И тот незнакомый ему, усталый человек в зеркале болезненно прижмурился, точно вспомнил, что был когда-то непоправимо виноват.
«О чем это я? Размотались нервы. Такое чувство, словно заплакать готов!.. Совсем никуда! – подумал он, испытывая знобкую боль в сердце. – Огрубел, огрубел за три года… Все казалось простым, как выбриться вот».
– С кем это вы говорите? – распевно спросил голос хозяйки за его спиной. – Сумно вам, чи шо? Кого ж вы в зеркале бачите?
Неслышно подошла сзади, наклонилась, чуть задев полной грудью его плечо, и, заглядывая в зеркало с медленной улыбкой, нежно касаясь мягким, как вода, взглядом его лица, шепотом повторила, тепло обдав дыханьем его волосы:
– Что же вы бачите? Веселый были и нахмурились… Сумно?
И он, внезапно тронутый этим, погладил ее руку, шершавую, несмелую, сказал откровенно, будто давней знакомой:
– Устал я. Вот отдохну, все пройдет. Устал очень… Она поняла его и тотчас кинулась к постели, начала взбивать чистые высокие подушки, а он тогда проговорил просто:
– Не надо. Мне на лавке. Спасибо. Мне только подушку.
Двигаясь легко, молодо, она накинула телогрейку, тихонько, не загремев, взяла ведро, взглянула своими прозрачными лучистыми глазами и вышла из хаты.
Ермаков облегченно бросил шинель на лавку. Дремотно стучал по крыше дождь, и жарко светила керосиновая лампа.
Он давно потерял ощущение времени, и этот дождливый вечер казался ему вчерашним осенним вечером, даже те ощущения, что были вчера, не покидали его и сегодня. Но был он смертельно утомлен всем, что случилось в эти ночи и дни; с желанием хотя бы короткого сна лег на расстеленную на лавке шинель, голова непривычно утонула в блаженном пуху подушки. Он долго не засыпал под тихое бормотание дождя. Затем сон мгновенно окунул его в теплую летнюю реку, прикоснулся к пяткам, накаленным песком желтого пляжа, залитого жарким солнцем, а по песку, в трусиках, с веслом на плече, шел кто-то знакомый, улыбающийся, но кто – он никак не мог узнать. «Кто это? – тенью толкалась во сне мысль. – Не может быть! Ведь Прошин убит…».