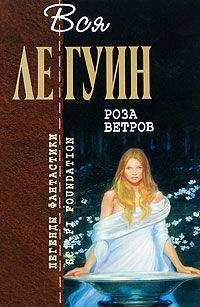Михаил Шушарин - Роза ветров
— Отремонтирую. Дайте только запчасти. Я сделаю.
— А на него сейчас и частей-то не выпускают, — хахакнул кто-то из присутствовавших при разговоре механизаторов. И все громко заржали.
— Если не выпускают, так зачем же на моей шкуре весь это хлам варить? — У Витальки краснели уши и заметно подрагивали плечи. — Вы потеху разводите, а я все эти годы только жил — во сне за рябиной бегал.
Павел Крутояров подошел к Витальке, взял толстыми пальцами за пуговицу.
— Значит, так?
— А как еще, — ответил Виталька и, не стесняясь, начал разглядывать могутную фигуру председателя.
— Если так, то приходи вечером, один с тобой поговорю.
О чем говорили Крутояров и Виталька, никому в Рябиновке не известно. Домой Виталька пришел поздно, угрюмый и расстроенный. Пригорюнилась мать у шестка. Звенели на потолке мухи, билось в затянутое марлей окошко комарье. За стеной, в палисаднике, шелестела рябина и где-то далеко за околицей ревел трактор. Утренняя малиновая заря спешила навстречу вечерней. Весело и строго смотрел на Витальку с завешанного вышитым рушником простенка молодой Виталькин отец в десантной форме.
Мать вытащила из печки горшок перепревших щей, накрошила луку, налила в тарелку.
— Садись, Витюша, поешь. Расскажи, как поговорили?
— Завтра старого «Захара», что возле кузни валяется, принимаю.
— Ой-ё-ё-ё! Да ведь он вовсе и без мотору. Что же ты на нем заработаешь?
— Найдут мотор. Номер есть — значит машиной числится. Буду починять. Не справлюсь — к дяде Афоне в помощники пойду, жеребят пасти. Мне все равно.
Акулина Егоровна обессиленно опустила руки, села на лавку.
— Это все Крутояров измигульничает?[11]
— Он.
— Вот ведь про клятой-то… Не могло ему башку-то на фронте оборвать. Добрых людей поуничтожало, а худых оставило. А еще другом был отца-то твоего. Когда ты маленький был, так все мне приказывал: «Береги парнишку!»
— Не греши, мать, на Павла Николаевича. Сам я пролетел, не на кого вину класть.
Виталька недохлебал щи, выпил залпом стакан простокваши с сахаром и ушел в горенку. Оттуда сказал:
— Может, он потому и прет на меня, что другом папкиным был.
Когда мать щелкнула выключателем и угомонилась у себя на кухне под пестрым, шитым из разноцветных треугольников одеялом, Виталька уткнулся в подушку и дал волю слезам.
Всю ночь маячил перед ним Павел Николаевич Крутояров, высокий, плечистый, не зависимый ни от кого. Посмеивался жестковато:
— То лето, Виталий, как нынешнее, споро шло. Травы буйствовали по всей Карелии. И ветер веселый дул. Относил запахи пожаров куда-то в сторону. И вечера были тихие, не хуже наших, рябиновских. До форсирования Свири по-довоенному все было. И нам показалось, что все то, что творилось долгие годы, все это — кошмарный сон. Но это только казалось. А на самом деле мы продолжали прочесывать леса… Да. Так вот, шел конец войны. Мы его угадывали. Но не верили в близкий его приход: почти каждый день выбывали наши десантники. Был — и нету. И частенько у нас настроение такое было, как на поминках. Посмотрят друг на друга: «Кто?» — «Саша Колобов из третьего» или «Иван Наметов из первого». И молчали. Это, парень, походило на крик… Батька твой, комиссар Соснин, человек был каменный. Материться он не умел. Но скажет бывало: «Жалко Сашку. За него отвечать придется Гитлеру самому».
Ты никогда в жизни не видел своего отца. Посмотрел бы ты на него. У меня он и сейчас вот тут сидит, капитан Соснин, гвардии капитан! Глаза синие, волосы, как ковыль, голос хрипловатый. Ты во всем выдался в него. Рост у тебя, правда, не тот. Кирилл был двухметровка. Мы всегда в бригаде подшучивали над ним, называли парашютной вышкой.
Виталька метался на подушках и стонал.
— Ну зачем вы все это? Я же хорошо знаю папку.
— Ни черта ты не знаешь, — говорил председатель. — Ты только думаешь, что знаешь… Вот знал бы ты, какая тягость у меня на душе… Нету твоего батьки, а он как живой сегодня… с упреком… Орденом Ленина был награжден, посмертно… Не знает он об этом.
— Извещение у матери в сундуке лежит.
Побелел кончик носа у председателя:
— Смотри, не вздумай этим документом хвастаться… Испоганишь… Он за тебя жизни не пожалел, а ты по тюрьмам навадился шататься, сволочь!
И отец смотрел с фотографии и одобрительно молчал.
* * *Были обыкновенные уроки, и учителя старались их хорошо давать, были родительские собрания по классам, педсоветы. Проводились своевременно, как положено.
Но двоек в журналах не убавлялось. Они даже прибывали. И горше всего, на другой день после педагогического совета, посвященного работе с родителями, в школу не пришло более половины первоклассников.
— В чем дело? Почему? — раздраженно спрашивал Степан учительницу.
Она недоуменно пожимала плечами:
— Откуда я знаю!
Объяснила все пришедшая в школу вместе с племянником Ефремушкой Акулина Егоровна.
Ефремушка был одет во все новое: красные ботиночки, брючки со стрелой, белая рубашка и, как у настоящего франта, галстук с серебряными полосочками. Но пиджак на Ефремушке был явно не в порядке: весь он был укатан в пыли, правый рукав оторван, полы окрашены глиной.
— Вот забастовщика привела, Степан Павлович, — заявила Акулина Егоровна, усаживаясь в мягкое зеленое кресло. — Не пойду, говорит, больше в школу никогда и ни за какие деньги.
— Почему?
— Ну отвечай, почему?
Ефремушка швыркал носом и молчал. Уши у него пылали.
— Не скажет сроду, стервец. Така порода холерская.
— Пошто не сказать, скажу, — осмелел Ефремушка. — Полным ответом?
— Полным.
— В школу больше ходить не буду, потому что «Сибирь» лупится.
— Что, что?
— То ли ты не знаешь, Степан Павлович? — прервала Акулина Егоровна. — Рябиновка-то наша из двух народностей состоит. По Агашкиному логу — кордон. С этой стороны — «Сибирь», Кудиновы да Коротковы, а с той — «Россия». Это, значит, мы, Соснины да Скоробогатовы. Других фамилий почти нету. Дедонько наш рассказывал, что российские позже к озеру приехали, поселились, а сибирякам, местному корню, это не по нутру. Искони драки были. До смертоубийства доходило. Кольями друг дружке башки ломали. А сейчас ребятишки пластаются. Ты и сам, поди, помнишь… Школа, она в сибирском конце, вот она, «Сибирь», и не дает проходу нашим. Поглядите на него, как они его нашшивали… Гладила-гладила, стирала, мыла, а он, скажи, как из хлева выскочил…
— Значит, бьют?
— Да ты чо, Степан Павлович, как дед Увар… На покосе было. Гром верескнул, а он, не перекрестившись, спрашивает: «Акулина, знать-то меня убило?» — «Убило, — говорю, — тебя, Увар Васильевич, так почему ты разговариваешь-то?» Так и ты. Бьют. Не бьют, лупят, лупцуют! Понял?
Степан засмеялся.
— А я думал, давно уж это забыто. Все понял. И обещаю: с завтрашнего дня этому положим конец, — сказал, не зная, что он может сделать, чтобы не было вековавшей никчемной вражды между двумя Рябиновками. Акулина тоже усмехнулась, уловив на лице его неловкость.
— Больно спор.
— Я твердо вам обещаю, — повторил Степан. — Вот посмотрите.
Акулина поняла, что Степан говорит это для Ефремушки, обняла племянника, притянула широкой рукой к себе.
— Ну вот, слышал? Айда и всем своим товарищам расскажи, как Степан Павлович выразился.
Ефремушка ушел, и Степан продолжил беседу наедине с Акулиной Егоровной:
— Ребята, племянники ваши, учатся хорошо. Но одна обида есть: классные родительские собрания проводили, ни мать не пришла, ни отец. Что они на школу рассердились, что ли?
Акулина Егоровна приосанилась и посуровела.
— Невмоготу им, Степан Павлович. Сама беременная ходит. Третьего под старость лет заводить решили, а отец — на работе. Там, на выпасках, и спит. Так что ты уж извиняй. Я хотела прийти, да ходок-то из меня получается не шибко прыткий.
Степан закрыл глаза, сжал веки так, что едва не выступили слезы, стараясь вспомнить в точности, как все было дальше. Акулина Егоровна продолжала сидеть в кабинете, и Степан догадался, что она хочет еще о чем-то спросить его.
— Ты мне скажи, Степан Павлович, — не заставила она себя долго ждать. — У вас новая учительница приехала. Молоденькая. Кто она? Откуда?
— Екатерина Сергеевна?
— Так вроде бы.
— Из Ленинграда. Биолог.
— Я к тому тебя об этом пытаю, что за Витальку сердце изболелось. В возрасте он уже. Жениться бы ему надо. А она холостая.
Степан задохнулся:
— Эт-т-о не мое дело, Акулина Егоровна. — Он всегда заикался в минуты большого напряжения. — Э-т-т-о вы сами с ней поговорите.
— Я ничо. Я просто так спросила, — успокоила Акулина Егоровна. — Если хороший человек, почему бы его в Рябиновке не закрепить. Многие из наших учительниц потому и робят здесь, что замуж повыходили… Может, думаю, и эта за Витальку пошла бы: дом у нас хороший, хозяйство — чо надо! И работник непостоянно у вас бы остался. И Виталька остепенился бы. А то ведь чисто истрепался.