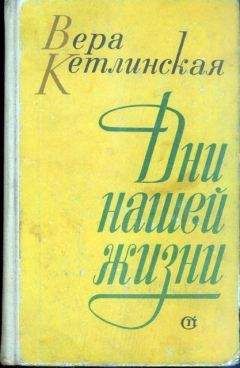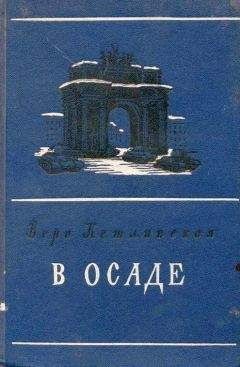Вера Кетлинская - Мужество
– Он пугает! – рассуждал Сема. – Это знаете что? Это он проверяет, какие мы комсомольцы. А пароходы идут, мясо едет, картошка! Бутсы выдадут! Чего же еще надо? Бутербродов с икрой, что ли?
Нет, о бутербродах с икрой не мечтали.
– Погибать так погибать, – сказал Тимка Гребень. – А пока – пошли купаться.
Но Валька не пошел купаться. Он был возбужден и зол. Что же, он приехал сюда для того, чтобы ослепнуть и сложить кости? Начальники не умеют работать, а ты погибай… Э-эх, ерунда какая-то…
– Погибать, так с музыкой! – крикнул Валька со злостью. – Айда к девчатам, погуляем напоследок!
И, направившись к девичьему шалашу, заорал петушиным криком.
– Чумовой! – откликнулась из шалаша Катя.
Но тут и разразился скандал. Костя Перепечко преградил ему дорогу и запальчиво бросил:
– И чего ты здесь шатаешься? Не лезь куда не зовут!
Валька развернулся и с размаху ударил его кулаком в ухо.
Перепечко охнул и что есть силы толкнул Вальку в грудь.
На помощь Косте бросились его приятели.
А тут появилась новая группа – девушки прогуливались, густо окруженные парнями. Они шли стайкой, болтая и смеясь. У Сони был смущенный вид – она никак не могла отделаться от ухаживаний Геньки Калюжного и боялась, что Гриша увидит, – с тех пор как он стал слепнуть по вечерам, он сделался ужасно ревнивым. Парни щеголяли перед девушками остроумием и вежливостью. Это не мешало соперникам язвительно вышучивать друг друга; но все было мирно, скрыто, пока они не увидели драку Бессонова и Перепечко. Сперва они кинулись разнимать дерущихся. Но как только узнали, что послужило причиной драки, скрытые чувства прорвались наружу и завязалась бестолковая перебранка, очень скоро превратившаяся во всеобщую потасовку.
Гриша Исаков прибежал и пытался уговорить дерущихся, еще не понимая толком, в чем дело. Но Генька Калюжный подлетел к нему, размахивая кулаками.
– Уйди! – закричал он, зловеще вращая глазами. – Женился, сукин сын, и молчи! Вот разженим – тогда посмотрим, что ты запоешь.
– Негодяй! – выкрикнула Соня, заслоняя собой Гришу.
– Дикари! Обезьяны! Орангутанги! – кричала Клава, бесстрашно становясь между дерущимися. – Да что мы, вещи, чтобы из-за нас драться? Да мы с вами и разговаривать не будем после этого!
Потасовка кончилась смехом. Пока парни дрались, Сергей Голицын подхватил Лильку, очень довольную разыгравшимся петушиным боем, и увлек ее гулять в тайгу. Драка прекратилась сама собой. Пристыженные нелепой вспышкой, парни смеялись и потирали синяки. Раздавались глухие, но уже не злобные угрозы.
Девушки взялись под руки и демонстративно удалились.
Валька Бессонов бросился вдогонку, виновато улыбаясь подбитыми губами:
– Катя, на минуточку!
– Дурак! – отрезала Катя, ускоряя шаги и не оглядываясь.
Валька постоял, упрямо пригнул голову и быстро пошел в свой шалаш.
Тоня побежала к Андрею Круглову. Надо было действовать, осудить, разоблачить, прекратить… Круглов и Тоня пошли на баржу к больному Морозову.
Морозов шел им навстречу, в валенках, опираясь на палку, – с той грозовой ночи, когда он работал в воде, его мучил острый приступ ревматизма.
– А я к вам тащусь, – сказал он. – Вы, говорят, кулачные бои развели. Москвичи за москвичей, тверяки за тверяков. Ну, пойдемте, потолкуем.
Они пошли в каюту.
– Таких комсомольцев исключать надо! – говорила Тоня. – Скорей бы конференцию да комитет, и выкатить их всех с треском.
Морозов улыбался.
– Всех? С треском? Ишь ты… горячая! – Потом он стал серьезен. – А вот конференцию откладывать больше нельзя, это ты права. Мы сами виноваты – работу с ребят требуем, а занять их в свободное время не умеем. Предоставили их самим себе.
– Они не маленькие, должны понимать, – сказал Круглов.
– Научим – будут понимать. Вот гляди, как Васяева рассуждает – всех, с треском, исключать. А ведь тоже не маленькая.
Тоня сидела вся красная.
– Ты не красней, я никому не скажу. А вот что надо сделать сразу – это ликвидировать «города». Расселим по бригадам – живо забудут, кто откуда. В бригадах – комсомольские группы, по участкам – ячейки. И конференцию поскорее. Да комитет выбрать покрепче, потолковее, чтоб не давал скучать без дела.
Он начал обсуждать, как провести выборы, но тут прискакал Петя Голубенко с последней новостью дня: Бессонов собрал вещи и пошел на пароход.
Круглов, Тоня и Петя побежали на берег. Уже прогудели два гудка, уже выбирали якорь, – а Вальки Бессонова не было видно.
Андрей взлетел по наполовину разобранным сходням, разыскал капитана и вместе с ним пошел искать Бессонова.
Валька мрачно сидел на своей корзине. Он не удивился и как будто даже обрадовался приходу Круглова, вскинул корзину на плечо и молча пошел за Кругловым на берег. Его подбитые губы вздрагивали.
Через полчаса тут же, на берегу, в сарае собрался товарищеский суд. Народу набилось – не повернуться. Комсомолец Бессонов Валентин, 1914 года рождения, обвинялся в нанесении побоев и дезертирстве.
– Чего ж говорить, раз виноват! – сказал Бессонов, и губы его задрожали еще сильнее. – Только я не дезертир. Меня разозлили, вот и все. Я бы все равно вернулся.
Для соблюдения правил стали допрашивать свидетелей. Но в это время перегруженные нары треснули, и члены суда полетели на пол. Судьи, зрители и подсудимый хохотали.
Катя Ставрова сказала:
– Ну и хорошо! Парень сам признался, чего же еще рассусоливать.
Она увела Вальку с собой.
– Дурак! – говорила она ласково. – Ну и дурак! И что Киров в тебе нашел, не понимаю.
Они бродили по тайге, пока не стемнело.
– Ну вот и все, – сказал Валька. – Петух весь вышел, осталась мокрая курица. Хочешь – режь, хочешь – милуй.
Катя решила миловать. Она повела его домой и весь вечер проявляла к нему заботливое участие. Он квохтал по-куриному, пробовал клевать хлеб, который она ему протягивала, и оба хохотали во весь голос, очень довольные друг другом.
Через несколько дней «города» были ликвидированы. Всех расселили по бригадам. На участках создали комсомольские ячейки. На конференции комсомольцы стройки выбрали общепостроечный комсомольский комитет, куда попали Круглов, Бессонов, Ставрова, Альтшулер. Валька пробовал сделать самоотвод (он еще переживал позор своего дезертирства), но ему ответили: «Ничего, крепче будешь».
Собрание происходило на поляне, за селом. Все сидели на траве, на пеньках, на бревнах.
Кончив выборы, запели песни.
И вдруг песня прервалась. На тропинке, ведущей из села, показались две странные фигуры. Это были юноша и девушка, круглолицые, скуластые, с узкими раскосыми глазами. На девушке был темный халат с желтым пояском, мелко заплетенные черные косы спускались на плечи и на спину, на дорожную котомку. Она была мала ростом, тонка и пуглива. Увидев столько народу, она попятилась, прячась за своего спутника.
– Да это же он! – вскричал Генька Калюжный. Гостей окружили. Генька взволнованно обнимал Кильту.
– Здравствуй, парень! Ого, ваша не любит трепаться! Сказал – приеду и приехал. Правильно!
Кильту бормотал, с любопытством оглядываясь:
– Зачем трепаться? Наша комсомол! Комсомол.
Он ткнул пальцем в сторону девушки:
– Тоже комсомол. Девушка – комсомол.
Мооми стояла, опустив по бокам тонкие смуглые руки и несмело улыбаясь.
Катя взяла ее за руку:
– Здравствуй! Ко мне в бригаду пойдешь?
Валька схватил Кильту:
– А ты ко мне! Вот и поделили!
Но девушка испуганно прижалась к своему спутнику.
– Моя с ним. Моя с ним.
Это вызвало всеобщий восторг. Мооми тоже смеялась, не совсем понимая, в чем дело. Через десять минут комсомольцы узнали всю историю – попытку родителей продать Мооми замуж за кулацкого сына Опа Самара, бегство Кильту и Мооми на лодке ночью, страх Мооми, что Самар или отец будут разыскивать их.
– Дудки! Теперь вы наши! – заявил Валька. – Пусть только сунется – ноги выдернем.
– С этого дня вы члены бригады «Интернационал», – заявил Сема. – И если что, будут иметь дело со мной.
Их устроили ночевать в шалаше, хотя Кильту и Мооми уверяли, что привыкли спать в лодке. Их угостили пшенной кашей, которая страшно понравилась обоим. И дали им самые толстые матрацы – таков закон гостеприимства.
29
В шалаше Исаковых собрались одни девушки.
Гриша, ожесточенно закусив папиросу, сидел перед шалашом на пеньке и мрачно прислушивался к девичьим голосам.
На другом пеньке, скрестив на груди руки, сидел Сема Альтшулер.
– Нет, ты понимаешь! Ты понимаешь! – вскричал Гриша и оторвал зубами изжеванный конец папиросы.
– Уж если женщина вобьет себе в голову… – сказал Сема и тоже не докончил.
Из шалаша донесся обрывок возбужденной речи:
– Я считаю, что это комсомольский долг…
И резкий окрик Тони:
– Чепуха!
– Это все она, – со злобой сказал Гриша. – Ханжа!