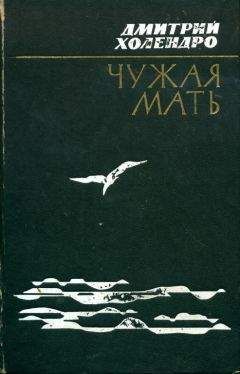Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]
— Как зачем? Завтра открываем наш стройлагерь «Украина».
— А!
Подумалось: верно, где-то есть и сибирский лагерь. Какая разница?
В другом краю стоял грузовик с платформой, — видно, привез гору бревен, лежавших рядом, и уже собирался уезжать.
— Эй! Эй!
— Чего кричишь, как зарезанный? — ответил из кабины немолодой дядя.
— Через центр едете?
— Можно и через центр, если надо.
— Надо, но платить нечем, — сказал Кеша на всякий случай.
— Не такси, — ответил дядя. — Садись. И перестань кричать.
— Нажмите.
— Чудаки люди! — сказал дядя. — Куда спешишь? Торопиться надо к тому, кто тебя ждет. Понятно?
— Понятно.
Дядя подобрел и нажал. И ни о чем больше не спрашивал. Завизжали тормоза у площади Навои, но Кеша не сразу узнал ее. Фонтан молчал. Пыль витала над сквером. Ее поднимал не ветер — детские ноги…
Как много детей!
Дети носились среди деревьев, лазили и прыгали по скамейкам, копошились в сухой чаше фонтана, играли в классы, в прятки, в чехарду, в индейцев, нацепив на головы куриные перья.
Большое, безопасное небо поднималось над сквером, и детей привели и прикатили сюда для жизни. У каждой скамейки, на которых сидели мамы и бабушки, стояли коляски с малышами, как лодки у причалов.
Кеша все смотрел на детей, а потом вдруг поднял глаза. Электрические часы показывали семь.
Он присел на край сухой мраморной чаши и стал ждать среди детской беготни и криков. Старичок в очках и тюбетейке, возле которого примостился Кеша, оторвался от газеты, протянул ее Кеше.
— Вот, пишут! Видите?
«Колымские старатели из бригады Кузьмина дарят детям Ташкента стоимость одного килограмма золота».
Радиорупор на столбе, вылезшем из-за оборванных, обтрепанных деревьев, говорил над площадью:
— Вчера в фонд помощи Ташкенту на счет 170064 поступило от колхоза имени Калинина, Рязанской области, пять тысяч рублей, от пенсионера Кадыра Джураева из Хатырчи сорок три рубля и безымянные переводы из Армавира и Пензы на пять и два рубля.
Видно, об этих поступлениях радио каждый день докладывало всем.
— Два рубля, — повторил старик, улыбаясь сквозь редкие зубы. — Может быть, какой-нибудь мальчик разбил свою копилку.
— Может быть.
— Или девочка, — сказал старик.
— Ну!
Кеша смотрел на женщину в черном длинном платье, которая, прижав к груди пустое одеяльце, бродила по аллеям, останавливалась у детских колясок, заглядывала в них и снова рвалась куда-то.
— Кто это?
Старик поохал, вздохнул, помолчал.
— Страшней всего было в родильном доме. Матери отдельно спали, дети — отдельно… Побежали за детьми в темноте, света нет… Бирок не видно, ничего не видно. Кричат одинаково. Где чей? Хватали в темноте… Одна трех детей взяла, выбежала во двор, всех у нее отняли, а где свой? Нет!.. Ну вот… И эта потеряла своего… Она тихая, — прибавил старик, последив за женщиной. — Только ищет…
Женщина все бродила по скверу, вздрагивая при каждом детском плаче, а другие матери загораживали и откатывали от нее коляски.
Было, конечно, много страшного в ту ночь. Теперь-то хоть ожидали толчков, сразу узнавали их, привыкли.
— Оно!
А тогда… И тревожней стало за Мастуру. Кеша закурил.
Знакомый сквер жил своей необычной и обычной жизнью. Там парень ждал кого-то с розой в руке, присев на велосипедную раму. Там встретились двое и пошли в сторону ото всех. Там стояли девушки…
Часы уже показывали четверть восьмого. Большая стрелка клонилась ниже и ниже. А потом поползла вверх. Нет Мастуры. Не пришла. Не придет.
Он посидел до половины девятого и встал. Ну, а завтра? Надо прожить эту длинную дорогу до завтрашнего вечера.
Работы назавтра оказалось много, чистили два больших развала, но все же в обеденный перерыв он успел подскочить к библиотеке. И никого не застал там. Пустые стены и поломанные стеллажи под солнечным небом. Спросил проходящую мимо женщину, когда кончили разбирать библиотеку.
— Вчера еще тут были люди.
Понятно, с книгами спешили. Не его же дожидаться. Вчера надо было сюда… В конце концов, он у них не штатный, у харьковчан. Таскает бревна бесплатно. Кормят — и ладно. Сегодня уйдет пораньше. Скажет Махотко… А что скажет? Что-нибудь…
Однако в этот день всех на час раньше посадили в грузовики и привезли в парк, где ставили палатки, растаскивая по ним кровати. Он подумал, где-то дом рухнул, спешная работа…
— Что такое?..
— Мероприятие!
Открывали лагерь «Украина». Ему же еще вчера сказали об этом те, что сколачивали трибуну. Ну вот, его отпустят, он чужой. Но Махотко удивился, сказал сердито:
— Какой чужой? — И погрозил пальцем. — Чтобы я не слышал!
Ребята одевались к параду. За деревьями все время играл духовой оркестр. Узбекские музыканты репетировали украинский марш. Ребята напевали про «дивчиноньку-чернобривоньку» и чистили ботинки. Получалась, значит, у ташкентцев украинская музыка. Когда начали строиться, на большой поляне заговорило радио. Кто-то прибежал оттуда поторопить.
— Харьковские! Чего застряли?
— Блистимся!
— Там в кино снимают. Не артисты! Давай как есть!
Засуетились, засмеялись:
— Бобошку вперед. А то его не увидят.
— Увидят, если захочу.
— Подпрыгнет.
— А банкет будет?
— Как построим город…
— Шевелись, шевелись!
— Та куда вы спешите? Какое там кино! На пушку берут!
Но перед деревянной трибуной, правда, сновали ребята с аппаратами. Прицеливались к щитам и фанеркам с надписями: «Одесса с вами!», «Днепропетровск в Ташкенте», «Николаев здесь». Их несли впереди колонн. С трибунки кричали в микрофон:
— Привет тебе, Одесса!
— Хай живе наше братерство!
Оркестр играл все тот же марш. От этого становилось всем еще веселее.
— Салям, Харьков!
Махотко первым схватился:
— А где наша Сибирь?
Бобошко огляделся и ответил:
— Вот она! Дивись!
За харьковчанами шел Кеша, обеими руками нес над собой фанерку с буквами: «Я из Наяринска». Буквы были еще сырые, с них текло. Он нес свою фанерку в вытянутых руках, и все операторы, сгрудившись, его снимали.
— Вот как! — крикнул Бобошко. — Сам по себе!
Да чего там сам по себе! Он схватил фанерку и банку с краской, забытую на траве, успел, написал кое-как. Может же Мастура увидеть эту фанерку в киножурнале? А больше ему ничего не надо было.
— Я с ним побалакаю!
Но поговорить с Кешей после парада не удалось Бобошке. Сибиряк исчез.
— Да где ж он?
А он уж ехал к площади Навои.
Снова и снова обшаривали его глаза аллейки сквера, ступени театра, колонны с приставленными к ним афишными щитами. Театр работал, зазывая на «Бахчисарайский фонтан» и «Сорок тысяч красавиц».
И вдруг Кеша обомлел. По ступеням, вдоль афиш, шли девушки — маленькая, скуластая и высокая, плоская, вся в красных бусах. Те самые, что стояли в этом сквере и разговаривали с Мастурой в день их первой прогулки.
Скорей! Он с разбегу схватил их за руки.
Они начали вырываться.
— Кто вы? Мы вас не знаем! Пустите!
— Кричи! Кричи! Я же простуженная! — захрипела длинная.
— Да не надо кричать! — взмолился Кеша, крепче сжимая их руки. — Я ищу Мастуру.
— Какую еще Мастуру?
— Ну! Вон там вы стояли с ней…
— Когда?
Он объяснил, когда.
— Не помните? Приветик!
— А-а! — хрипло протянула длинная, успокаиваясь и то ли теребя свои бусы, то ли потирая больное горло. — Мы ее всего-то раз видели, на Комсомольском озере… Ее Мастурой зовут?
— Мы о ней ничего не знаем, — робко прибавила малышка.
— С кем она тогда была, на Комсомольском? — спросила ее подруга.
— С Хадичей Муратовой.
— Вот! Поищите Хадичу Муратову на телеграфе, — прохрипела длинная уже совсем дружески.
— Это тоже Навои. Только не площадь, а проспект. Приветик!
Кеша отпустил их руки, а когда девушки отошли, крикнул вдогонку:
— Спасибо!
Ну что ж… На телеграф. К Хадиче Муратовой. Проспект Навои, наверно, недалеко.
Оказалось, далеко. Шагал туда вдоль все еще не убранных развалин и темных пустырей. Среди развалин в одном месте сидели за столами милиционеры, вовсю командовали по телефонам. Вывеска держалась на колу — областное управление милиции. Дом не устоял, работали во дворе.
Перебрался через бугор, спросил, показали. Теперь было совсем близко. Там, куда протянул руку майор, светились огни вроде бы целой улицы.
И правда, она новой была и почти целой, будто из другого города. Новые дома выдерживали толчки, хотя все стены внутри телеграфа располосовало сверху вниз, как по линейке, прямехонько потрескалась штукатурка. В большом зале народу было битком. Еще бы! Телеграф стал средоточием людских волнений, требующих ответа.
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/uploads/posts/books/240148/240148.jpg)