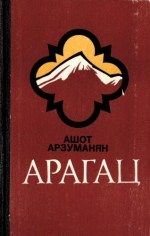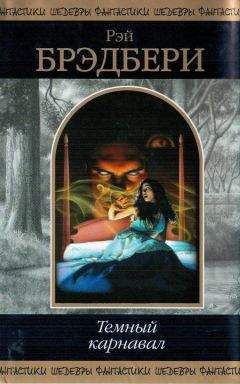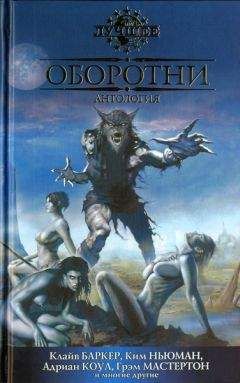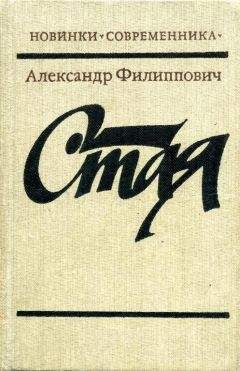Ихил Шрайбман - Далее...
Для чего Рашкову столько бочек и бочечек? Нашему бочонку для пасхального борща уже бог знает сколько лет, служил он еще бабушке и прабабушке, и будет еще стоять на чердаке от пасхи до пасхи бог знает сколько лет. Бочка, в которой мы держим воду, таки подтекает понемножку, но отец заткнул щелочки паклей, и воду там можно держать и держать без конца.
Я люблю останавливаться у Берла-бондарева забора. Стоять и заглядывать во двор. Берл-бондарь, в фартуке, без шапки, с длинными обвислыми усами, скачет с молотком в руке вокруг высокой бочки, выше него самого. Зачем Рашкову нужна такая высоченная бочка? Молоток наколачивает на бочку обруч с раздольным звоном, и пустая бочка отвечает молотку еще более раздольным эхом. Весь двор уже наполнен молоточным звоном и бочечным эхом.
Берл-бондарь замечает меня у забора, подмигивает мне издали и распевается вдруг громким-громким голосом, еще громче и еще раздольней, чем звон молотка и чем ответ бочки на этот звон:
Точно обруч в руках бондаря,
Нам любовь — вокруг шеи петля.
Ой-вэй, ой-вэй…
Берл-бондарь пьянеет, наверно, от одних только бочек. Пьяненькое пение его, звон молотка и эхо в бочке возносятся вместе над крышами и крылечками, растекаются по всем уголочкам маленькой улочки.
Рашковец, конечно, скажет:
— Я бы рассказал это лучше.
Правильно. Все рашковцы имеют талант рассказчика. Говорят, что когда ангел воображения (есть и такой ангел) на своих крыльях нес миру мешок историй, мешок этот зацепился за острый камень на высокой рашковской горе, разорвался, и все истории рассыпались над всем Рашковом. Половина историй упала в Днестр, они уплыли вниз, покачиваясь на волнах, как бумажные кораблики, застряли в каждом из прибрежных местечек, тут несколько, там несколько. Другая половина целиком осталась у рашковцев.
— Послушай, — спросит рашковец, — на что тебе это надо, что ты хочешь этим сказать?
На такого рода вопросы и ответить-то нечего. Но с рашковцем разговариваю я всегда как равный с равным:
— Ну а просто так нельзя?
— Просто так не бывает. — Рашковцы к тому же еще и философы тоже.
— Значит, оно таки не просто так.
— Например?
— Не для рашковцев. Рашковцы никогда толком Рашков не понимали. Для всего мира. Вернуть миру рассыпанный мешок историй.
— Ай, брось, не тяни корову на чердак.
— Что ж тебе здесь покоя не дает, корова или чердак?
— Ты мне покоя не даешь. Само то, что ты тянешь, не дает мне покоя.
— То, что тяну, или то, что получу за это, — слава?
С рашковцем можно спорить день и ночь. Рашковец тебе так скоро не уступит. Разве что щелкнешь его как следует по носу. После щелчка он начинает делать одолжения:
— Ну, будет. Ты уже начал, рассказывай дальше. Ты рассказывай, а мне уж придется тебя выслушать. Ладно.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Теперь, дорогой читатель, будь так добр перейти со мной на другую сторону улочки. Другую сторону улочки начинаю я сверху вниз.
Снова длинное крыльцо: невысоко от земли; веселое; с вазонами на окнах изнутри; с веселыми портняжскими песенками, которые часто слышатся из окон. Лейб Шлойме-Ореша — обыкновенный, неплохой мужской портной, и причитается ему не больше, чем его имя: Лейб Шлойме-Ореша. Но он хочет называться Лейб Фридман (он бы даже хотел — Лео Фридман); местечко же зовет его еще лучше: «американец», а шить у него шьют только господа, только высокие персоны, торговцы с шикарными магазинами да какие-нибудь разособенные женишки. Счастье такое. Судьба такая. Такое вывернутое счастье и такая вывернутая судьба.
Много лет назад Лейб Шлойме-Ореша уехал в Америку, отмучился там какое-то время на швейной фабрике, был, говорят, простым гладильщиком, к пиджакам и брюкам только пуговицы пришивал, никак за те годы не смог вскарабкаться, прижиться. Мучился, мучился и в конце концов вернулся обратно домой, в Рашков, в одних, говорят, портках. Но шумливость, хвастливость и ухватистость он, видать, все же прихватил с собой из Америки. Сразу напротив двери, как только входишь в портняжскую, стоит на винте манекен, который, если хочешь, может становиться и выше, и ниже, а на манекене висит сметанный пиджак, без рукавов пока, но такой точеный и такой вылизанный, аж сияет. Вокруг длинного стола носится Лейб Шлойме-Ореша в расстегнутом жилете, с очками на носу, и плоским мелком рисует на куске ткани столько линий и столько кружочков, что ткани из-под них уже и не видно. У окон строчат две или даже все три швейные машинки. Хозяйка дома, высокая веснушчатая женщина — мачеха трех сыновей Лейба Шлойме-Ореша, да у нее у самой еще, от первого мужа, своих два мальчика. И так вот, с таким, не сглазить бы, количеством рук, портняжская Лейба Шлойме-Ореша и в самом деле не просто портняжская, а прямо-таки целая фабрика. А Лейб Шлойме-Ореша действительно заслуживает, чтобы называли его, как он сам хочет — Лейб Фридман, или таки Лео Фридман. Особенно если встречают его иногда после работы на улице. Твердый круглый котелок на голове, цветастый галстук на шее, а пальтишко с плюшевым воротничком такое точеное, такое вылизанное, аж сияет. Будто сам манекен на винте, рекламы ради, выбрался погулять по местечку.
Мачеха же, кроме всего, прекрасная хозяйка, золотые руки. Сзади дома, совершенно сама, посадила деревца: черешни, вишни, сливы. Деревца постепенно разрослись. Ребята поставили вокруг них забор. И со временем за мастерской Лейба Шлойме-Ореша поднялся чудный фруктовый сад. То есть и задняя сторона дома Лейба Шлойме-Ореша тоже сияет.
Мне уже лет пятнадцать, и я дружу со средним сыном Лейба Шлойме-Ореши, с Решеле Лейба Шлойме-Ореша, с Гершеле Фридманом. Дружны мы, понятно, потому, что оба левые. Субботним днем собираемся мы с Нюкой, Вигдором и Нислом у Гершеле Фридмана в саду. Сидим в траве под вишней и обмозговываем мир. Самый горячий среди нас всех — Нюка. Нюка говорит, что Рашков надо расшевелить. Единственное, что нужно в Рашкове, это забастовка. Объявить хозяевам забастовку! Гершеле, видим мы, сильно переживает. Он все вздыхает, аж постанывает:
— Ой, и как раз моим хозяином должен быть родной отец!
— Ну и что? — горячится Нюка. — Какая тут разница, отец или не отец? Есть кое-что повыше, чем отец!..
То ли мачеха подслушала наши разговоры, то ли просто так, без всяких почему, она выскочила вдруг из дома с длинной кочергой в руке, смешала нас всех с грязью, обругала на чем свет стоит и по одному выгнала нас кочергой из сада. Гершеле был страшно расстроен, издалека он пожал нам плечами: мачеха! А Вигдор, самый старший и самый умный среди нас, сказал с усмешкой:
— Мачеха ему виновата. Всю злобу мира навешивают на мачех.
Ниже стоит точно такой же маленький домик, как напротив: . Как домик Велвла-мясника. Здесь живет Азрилик-маляр. Азрилика-маляра часто видят слоняющимся по улице в кругло торчащих, цветасто-забрызганных штанах. На плече его висит стремянка. В обеих руках — ведра с кистями, с мастерками, с линейками, с торбочками краски, со скрученными трафаретами, да и вообще, чего там только нет. Таким видят Азрилика-маляра в «мертвый сезон» — в те месяцы, когда работы нет, когда он слоняется и ищет работу. В летнее время, перед праздниками, когда какая-никакая, а работа есть, его вовсе не видно. А если и увидят его иногда на улице, тогда лишь на нем пара чистых брюк, чистые ботинки. Но кое-где лоб и кое-где щеки по обеим сторонам носа слегка подкрашены.
Азрилик-маляр не маленький и не молоденький. Как раз даже большой и как раз уже в годах. Если люди называют такого не Азриэль, а уменьшительно — Азрилик, то одно из двух: или люди души в нем не чают, или это тот еще Азрилик. Здесь как раз первое, не второе. И почему, собственно, такого Азрилика-маляра не любить? Никого он не трогает, претензий ни к кому не имеет. Уходит еще год и еще год, на голове прибавляется еще несколько белых нитей, на шее и на щеках еще пара складок, еще пара борозд — та же лесенка на плече, те же ведра в руках. С хозяевами не ссорится. Хозяйкам потакает сколько душе угодно. Хотите другой рисунок, этот вам не нравится? Нате вам другой рисунок! Потолок перебелить? Вот вам потолок уже перебеленный! Лишь бы только дни и ночи благополучно уходили, лишь бы только дни и ночи благополучно ушли…
Как вроде бы назло, рядом с крошечным домиком Азрилика-маляра расстилается и ввысь и вширь домина целиком из кирпича, со стеклянной верандой, выходящей на улицу, и с густым ветвистым орехом у веранды. Стекло веранды раздвигается, и Хананья Меерсон, хоть богач он уже и разорившийся, стоит в открытой раме с красиво расчесанной, седовато-рыжей квадратной бородой, с бархатной ермолочкой на макушке, и потирает ладони. Когда-то Хананья Меерсон торговал зерном, арендовал у бояр участки леса, имел долю в гертопской спиртокурне. А сейчас, говорят люди, не имеет он ничего. Совершенно ничего. Но те же самые люди говорят и обратное тоже: имели бы м ы то, что выбрасывают еще сейчас у Хананьи Меерсона, не надо нам было бы днем и ночью пахать носом землю, терпеть обиды и унижения, чтобы увидеть наконец живой грошик в руке, тоже учили бы детей за границей и тоже имели бы девчонку-бездельницу, что сходит целый день с ума от скуки.