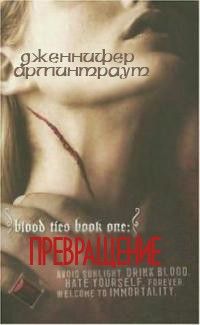Вениамин Каверин - Перед зеркалом
Об Утрилло — в другой раз. Я не могу на него насмотреться.
Ты спрашиваешь о выставках. В мае и июне их очень много, я думаю, не меньше полутораста, во всех районах Парижа. Они устраиваются обычно в эстампных или художественных магазинах. Было время, вскоре после моего приезда, когда я кружилась в этом вихре, доходя почти до потери сознания. Разнообразие — беспредельное, стремление поразить — настойчивое и в конечном счете — успешное. Многое покупается. Но среди тысяч полотен — почти ни одного, перед которым остановился бы с восторгом, с изумлением. Пишут для денег, для славы, заглядываясь на других и не заглядывая в себя — верный путь к скорому и неизбежному забвению. Подражают кому угодно — от египтян до Модильяни, даже не пытаясь понять тех, кому они возносят молитвы...
Здоровье мое недурно. Как твоя малярия? Неужели она так плохо вылечивается?
12.VI.24. Париж.
Мой неизменно дорогой, милый и милый, я ужаснулась, хватившись, как долго я тебе не писала. Где ты, как живешь? Помнишь, я писала тебе об англичанине, которому понравились мои копии мозаики Кахрие-Джами? Он разыскал меня в Париже, отправил фотографии в Лондон и сообщил — это было еще в апреле, — что музей «Виктория» покупает четыре работы. Я рассчитывала на эти деньги еще и потому, что хотела послать тебе на дорогу, дополнив твои сбережения. Но дело задержалось, потому что профессор, которому поручена экспертиза, уехал, а я тем временем снова оказалась в рабстве. Почти неделю перебивалась с хлеба на воду, и кончилось тем, что Георгий переехал ко мне — на два дня, как он сказал. Пришлось уступить (от усталости), и это были мучительные два месяца, а не два дня, потому что я снова оказалась между ним и мужем, которого я жду с нежностью и волнением. Ну что ты скажешь об этом скорбном триптихе: в середине — Елизавета великомученица и великомучительница, по одну сторону — невинно страдающий праведник Алексей, а по другую — грешник Георгий, и он же (иногда) Победоносец. Прости мне эту невеселую шутку.
Наконец я вырвалась, получив работу, переехала в другой отель и вот пишу тебе — первое преимущество свободы.
Была я у Эберзольта и Диля, встретили суховато. У Диля выходит труд о Кахрие-Джами. Он — худенький, почивший на лаврах. Зато у Милле (который уехал на все лето) познакомилась с его ученицей и просидела полдня, перелистывая собрание альбомов византийской и русской иконографии. Я не знала, что Милле читает в Сорбонне лекции, которые я непременно буду посещать — это общедоступно.
Гарсон ждет, чтобы бросить письмо. Кончаю. Пришли мне какие-нибудь открытки казанского кремля. Да и Москвы. Хоть самые простые, без красок.
20.VIII.24. Париж.
Ваша светлость, я Вас жду с нетерпением, которое ничуть не постарело, по крайней мере в сравнении со мной. Была сегодня в полиции, но не могла выяснить, какой документ тебе нужен. В советском консульстве мне сказали, что, если ты получаешь командировку, визу тебе поставят без полицейского удостоверения, в Москве. Завтра пойду в Министерство иностранных дел — попробую узнать, что это за документ и как его получить.
Деньги, мой родной, я получила и бесконечно тебе благодарна, как раз нечем было заплатить за квартиру. А вчера — новая удача. Из Лондона прислали одиннадцать фунтов за мои маленькие «Византии». Лето было трудное. Без помощи Гордеева мне долго не удавалось найти заказ, а потом пришлось работать с утра до ночи, чтобы заплатить долги. Расписывала ресторан в японском стиле. Вчера впервые — подумай только! — поехала в Версаль. Было преображение, и парижская толпа шумела на аллеях, напоминая нашу «Швейцарию» в Казани. Надо будет собраться туда как-нибудь в будни, на этюды. Правда ли, что Петров-Водкин собирается в Париж? Хочется показать ему мои работы. Боже мой, ведь и ты не видел их тысячу лет!
Это письмо кончалось упоминанием о химерах Нотр-Дам. К нему были приложены открытки, изображающие этих удрученных, самолюбивых, настороженных полузверей-полуптиц.
В другом, веселом письме Лиза рассказывала о Блошином рынке, напоминавшем ей классическую Хитровку: «Вот у женщины на руках прелестный фокс, и лает, и перебирает лапками совсем как фокс — не сразу и догадаешься, что сделан из тряпок. Вот картонные бойцы сражаются не на жизнь, а на смерть, квакают лягушки, крякают живые и искусственные утки, а продажа всей этой живности из папье-маше идет под шутки, присказки, пение и оглушительную болтовню, которую нигде больше, кажется, и не услышишь».
На этой толкучке Лиза купила готовальню, несколько горшков для натюрмортов и акварель неизвестного художника, о которой отозвалась с восхищением. Легко предположить, что покупки были сделаны за счет обеда — недаром же упоминает она о закуске за пять сантимов: «Берут вилку и запускают ее наудачу в чан. Вытащить можно что угодно: рыбу или овощи, кусок колбасы или сосиску. А потом можно и закурить: окурки сигар и папирос расположены по сортам и — соответственно — по ценам».
3.II.25.
Милый друг, я еще провинциалка в Париже. Тебе, должно быть, покажется странным, если я скажу, что еще ни разу не была в театре. Дешевые билеты надо доставать заранее, а у меня нет времени и нет никого, кто позаботился бы обо мне в этом отношении. Вот надеюсь на твой приезд — так хочется многое увидеть вместе!
Теперь, как ты просил, о живописи. В моде — Пикассо, Дерен, Брак, с одними носятся, другим подражают. Они давно на сцене — еще в 1913 году почти все выставлялись в нашем «Бубновом валете». Каждый по-своему пытается открыть в искусстве новое с помощью старого: одни идут от фрески, другие — от примитива, а кто и просто от вывески. Последние — интереснее других. Что касается Матисса, Гогена и даже Сезанна — они в частных руках и почти недоступны. Вообще же говоря, на парижском мировом рынке живопись — такой же товар, как, скажем, картофельная мука или мясо. Все дело в моде, а мода устраивается так: некий marchand (купец) заключает контракт с молодым художником, обязываясь покупать все или некоторые его картины по установленной (обычно ничтожной) цене. Художник, со своей стороны, в первом случае ничего не продает на сторону, а во втором — предоставляет торговцу, marchand'y, «право первого взгляда». (Кстати сказать, мне представлялась такая возможность, но Гордеев отсоветовал, возмутившись грошовой оценкой.) Когда marchand видит, что товару достаточно, он начинает рекламировать художника, устраивает выставки — таким образом создается имя и мода. Впрочем, гораздо чаще художник до конца дней нищенствует в ожидании славы.
В «Ротонде» на днях открылась выставка тридцати трех русских художников: Ларионов, Борис Григорьев и Гончарова приглашены для рекламы, а остальные — публика, от которой нужно держаться подальше. Бездельники, которые целыми днями торчат в «Ротонде», потому что это единственное место, где можно поживиться на чужой счет. Часами сидит такой индивидуум за пустой чашкой кофе, поглядывая по сторонам, кто сжалится над ним и «выкупит», то есть заплатит за кофе. Если ты не один и уже известно, что у тебя можно «стрельнуть», — к тебе подходят и просят «на слово». Опытный человек отказывает. «Тогда на полслова!» Даешь, в конце концов, франк — довольствуется и этим. На жаргоне «Ротонды», «слово» в прошлом году стоило десять франков, «полслова» — пять. Тошно!
Я давно не видела работ Гончаровой и теперь снова почувствовала в ней то, чего мне самой всегда не хватало: слитность жизни и труда, когда невозможно отделить одно от другого. Зоркость у нее детская, которую почти никому сохранить не удается. А ей удалось. Но рядом с этими детскими, широко открытыми глазами (в двух холстах) — опущенный, как у монахини, взгляд.
Мы горечь своей жизни на чужой стороне чувствуем ежедневно и ежечасно. В лучшем случае — живем «мимо». А у нее в этих опущенных глазах — трагедия разлуки. И эту трагедию она пишет очень по-русски. Техника у нее твердая, дышащая стариной, и она сознательно предпочитает ее французской манере. Мне кажется несправедливым, что ее неизменно ставят рядом с Ларионовым, хотя сходство есть, как у супругов, которые от долгой совместной жизни становятся похожи. Ларионов — крупнее, острее. Но Гончарова мне ближе. И все-таки учиться у нее я бы не могла. Думаю, что у нее и нельзя ничему научиться. В ней все-таки нет того, что отличает бесспорных мастеров: первоначальности, первозданности, новизны, принадлежащей только ей и никому другому...
Алексей отложил свой приезд. Дела! Жаль. Впрочем, я уже «сносила» эту встречу, как, бывало, снашивала в уме платье, которое не могла купить.
Живу одна и счастлива сознанием своего одиночества и свободы, хотя живется дьявольски трудно. Женщине не только тяжело, но почти невозможно достать работу в Париже.
P.S. Спасибо за фотографии. У Нади очень милое, симпатичное лицо (я им довольна).
27.IV.25. Париж.