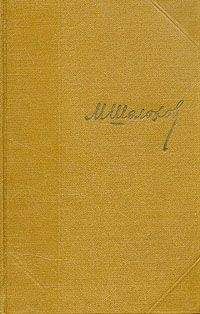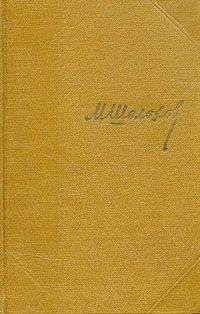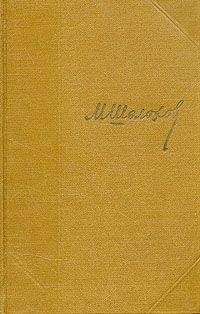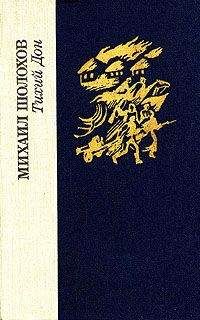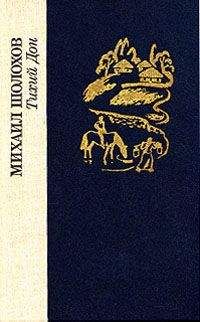Михаил Шолохов - Том 5. Тихий Дон. Книга четвертая
Конь Григория норовил идти по обочине дороги, изредка на ходу срывал ветку донника, жевал ее, гремя удилами. Раза два он останавливался, ржал, завидев вдали лошадей, и тогда Григорий, очнувшись, понукал его, невидящим взором оглядывал степь, пыльную дорогу, желтую россыпь копен, зеленовато-бурые делянки вызревающего проса.
Как только Григорий приехал домой — явился Христоня, мрачный с виду и одетый, несмотря на жару, в суконный английский френч и широкие бриджи. Он пришел, опираясь на огромную свеже-оструганную ясеневую палку, поздоровался.
— Проведать пришел. Прослыхал про ваше горе. Похоронили, стал-быть, Наталью Мироновну?
— Ты каким путем с фронта? — спросил Григорий, сделав вид, будто не слышал вопроса, с удовольствием рассматривая нескладную, несколько согбенную фигуру Христони.
— После ранения на поправку пустили. Скобленули меня поперек пуза доразу две пули. И до се там, возле кишок сидят, застряли, стал-быть, проклятые. Через это я и при костыле нахожусь. Видишь?
— Где же это тебя попортили?
— Под Балашовым.
— Взяли его? Как же тебя зацепило?
— В атаку шли. Балашов, стал-быть, забрали и Поворино. Я забирал.
— Ну, расскажи, с кем ты, в какой части, кто с тобой из хуторных! Присаживайся, вот табак.
Григорий обрадовался новому человеку, возможности поговорить о чем-то постороннем, что не касалось его переживаний. Христоня проявил некоторую сообразительность, догадавшись, что в его сочувствии Григорий не нуждается, и стал охотно, но медлительно рассказывать о взятии Балашова, о своем ранении. Дымя огромной цыгаркой, он густо басил:
— Шли в пешем строю по подсолнухам. Они били, стал-быть, из пулеметов и из орудий, ну и из винтовок, само собой. Человек я из себя приметный, иду в цепи, как гусак промеж курей, как ни пригинался, а все меня видно, ну они, пули-то, меня и нашли. Да ить это хорошо, что я ростом вышел, а будь пониже — акурат в голову бы угодили! Были они, стал-быть, наизлете, но вдарили так, что ажник в животе у меня все забурчало, и каждая горячая, черт, как, скажи, из печки вылетела… Лапнул рукой по этому месту, чую — во мне они сидят, катаются под кожей, как жировики, на четверть одна от другой. Ну, я их помял пальцами и упал, стал-быть. Думаю: шутки дурные, к едреной матери с такими шутками! Лучше уж лежать, а то другая прилетит, какая порезвей, и наскрозь пронижет. Ну, и лежу, стал-быть. Нет-нет, да и потрогаю их, пули-то. Они всё там, одна вблизи другой. Ну, я и испужался, думаю: что — как они, подлюки, в живот провалются, тогда что? Будут там промеж кишков кататься, как их доктора разыщут? Да и мне радости мало. А тело у человека, хотя бы и у меня, жидкое, пробредут пульки-то до главной кишки — и ходи тогда, греми ими, как почтарский громышок. Полное нарушение получится. Лежу, шляпку подсолнуха открутил, семечки ем, а самому страшно. Цепь наша ушла. Ну, как взяли этот Балашов, и я туда прикомандировался. В Тишанской в лазарете лежал. Доктор там такой, стал-быть, шустрый, как воробей. Все упрашивал: «Давай пули вырежем?» А я сам себе на уме… Спросил: «Могут они, ваше благородие, в нутро провалиться?» — «Нет, — говорит, — не могут». Ну, тогда, думаю, не дамся их вырезать! Знаю я эти шутки! Вырежут, не успеет рубец затянуться — и опять иди в часть. «Нет, — говорю, — ваше благородие, не дамся. Мне с ними даже интереснее. Хочу их домой понесть, жене показать, а они мне не препятствуют, не велика тяжесть». Обругал он меня, а на побывку пустил, на неделю.
Улыбаясь, Григорий выслушал бесхитростное повествование, спросил:
— Ты куда попал, в какой полк?
— В Четвертый сводный.
— Кто из хуторных с тобой?
— Наших там много: Аникушка-Скопец, Бесхлебнов, Коловейдин Аким, Мирошников Семка, Горбачев Тихон.
— Ну, как казачки́? Не жалуются?
— Обижаются на офицерьев, стал-быть. Таких сволочей понасажали, житья нету. И почти все — русские, казаков нету.
Христоня, рассказывая, натягивал короткие рукава френча и, словно не веря своим глазам, удивленно рассматривал и гладил на коленях добротное ворсистое сукно английских штанов.
— А ботинок, стал-быть, на мою ногу не нашлось, — раздумчиво говорил он. — В английской державе, под ихними людьми, таких ядреных ног нету… Мы же пашаницу сеем и едим, а там, небось, как и в России, на одном жите сидят. Откель же им такие ноги иметь? Всю сотню одели, обули, пахучих папиросов прислали, а всё одно — плохо…
— Что плохо? — поинтересовался Григорий.
Христоня улыбнулся, сказал:
— Снаружи хорошо, в середке плохо. Знаешь, опять казаки не хотят воевать. Стал-быть, ничего из этой войны не выйдет. Гутарили так, что дальше Хоперского округа не пойдут…
Проводив Христоню, Григорий после короткого размышления решил: «Поживу с неделю и уеду на фронт. Тут с тоски пропадешь». До вечера он был дома. Вспомнил детство и смастерил Мишатке ветряную мельницу из камышинок, ссучил из конского волоса силки для ловли воробьев, дочери искусно сделал крохотную коляску с вращающимися колесами и причудливо изукрашенным дышлом, пробовал даже свернуть из лоскутков куклу, но тут у него ничего не вышло; кукла была сделана при помощи Дуняшки.
Дети, к которым Григорий никогда прежде не проявлял такого внимания, вначале отнеслись к его затеям с недоверием, но потом уже ни на минуту не отходили от него, и под вечер, когда Григорий собрался ехать в поле, Мишатка, сдерживая слезы, заявил:
— Ты сроду такой! Приедешь на-час и опять нас бросаешь… Забери с собой и осилки, и мельницу, и трещотку, все забери! Мне не нужно!
Григорий взял в свои большие руки маленькие ручонки сына, сказал:
— Ежели так — давай решим: ты — казак, вот и поедем со мной на́ поля: будем ячмень косить, копнить, на косилке будешь с дедом сидеть, коней будешь погонять. Сколько там кузнецов в траве! Сколько разных птах в буераке! А Полюшка останется с бабкой домоседовать. Она на нас в обиде не будет. Ее, девичье, дело — полы подметать, воду бабке носить из Дону в маленькой ведрушонке, да и мало ли у них всяких бабьих делов? Согласный?
— А то нет! — с восторгом воскликнул Мишатка. У него даже глаза заблестели от предвкушаемого удовольствия.
Ильинична было воспротивилась.
— Куда ты его повезешь? Выдумываешь, чума его знает что! А спать где он будет? И кто за ним там будет наглядывать? Упаси бог, либо к лошадям подойдет — вдарят, либо змея укусит. Не ездий с отцом, милушка, оставайся дома! — обратилась она к внуку.
Но у того вдруг зловеще вспыхнули сузившиеся глаза (точь-в-точь как у деда Пантелея, когда он приходил в ярость), сжались кулачки, и высоким, плачущим голосом он крикнул:
— Бабка, молчи!.. Все одно поеду! Батянюшка, родненький, не слухай ее!..
Смеясь, Григорий взял сына на руки, успокоил мать:
— Спать он будет со мной. Отсюдова поедем шагом, не уроню же я его? Готовь ему, мамаша, одежу и не боись — сохраню в целости, а завтра к ночи привезу.
Так началась дружба между Григорием и Мишаткой.
За две недели, проведенные в Татарском, Григорий только три раза, и то мельком, видел Аксинью. Она, с присущим ей умом и тактом, избегала встреч, понимая, что лучше ей не попадаться Григорию на глаза. Женским чутьем она распознала его настроение, сообразила, что всякое неосторожное и несвоевременное проявление ее чувств к нему может вооружить его против нее, кинуть какое-то пятно на их взаимоотношения. Она ждала, когда Григорий сам заговорит с ней. Это случилось за день до его отъезда на фронт. Он ехал с поля с возом хлеба, припозднился, в сумерках около крайнего к степи проулка встретил Аксинью. Она издали поклонилась, чуть приметно улыбнулась. Улыбка ее была выжидающей и тревожной. Григорий ответил на поклон, но разминуться молча не смог.
— Как живешь? — спросил он, незаметно натягивая вожжи, умеряя легкий шаг лошадей.
— Ничего, спасибо, Григорий Пантелеевич.
— Что это тебя не видно?
— На́ полях была… Бьюсь одна с хозяйством.
Вместе с Григорием на возу сидел Мишатка. Может быть, поэтому Григорий не остановил лошадей, не стал больше занимать Аксинью разговором. Он отъехал несколько саженей, обернулся, услышав оклик. Аксинья стояла около плетня.
— Долго пробудешь в хуторе? — спросила она, взволнованно ощипывая лепестки сорванной ромашки.
— Днями уеду.
По тому, как Аксинья на секунду замялась, — было видно, что она хотела еще что-то спросить. Но почему-то не спросила, махнула рукой и торопливо пошла на выгон, ни разу не оглянувшись.
XIXНебо заволокло тучами. Накрапывал мелкий, будто сквозь сито сеянный, дождь. Молодая отава, бурьяны, раскиданные по степи кусты дикого терна блестели.
Крайне огорченный преждевременным отъездом из хутора, Прохор ехал молча, за всю дорогу ни разу не заговорил с Григорием. За хутором Севастьяновским повстречались им трое конных казаков. Они ехали в ряд, поталкивая каблуками лошадей, оживленно разговаривая. Один из них, пожилой и рыжебородый, одетый в серый домотканный зипун, издали узнал Григория, громко сказал спутникам: «А ить это Мелехов, братушки!» — и, поровнявшись, придержал рослого гнедого коня.