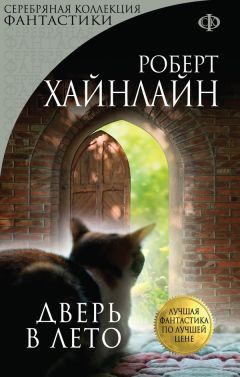Юрий Либединский - Зарево
— Да что он пишет? Я разобрать не могу, — сказал Алеша, вертя бумажку. — Ему денег нужно?
— Об этом речи не было. Он, насколько я мог понять, беспокоился о том, что, не выйдя на работу, подведет вас и… — Новый знакомец помолчал, потом сказал, наклонив голову и глядя исподлобья на Алешу: — Он предлагает вам меня на открывшуюся вакансию.
— Ну что вы! — быстро возразил Алеша. — Какая там вакансия? Ведь это… это, знаете, какая работа? Мальчишки называют эту работу «крути, Гаврила»…
— Именно так и назвал ее Всеволод Федорович. Но, во всяком случае, это занятие куда более осмысленное, чем, например, сидеть в канцелярии или дурачить людей с амвона. — В голосе юноши послышалась такая ненависть, что Алеша вздрогнул.
В качестве «крути, Гаврила» новый помощник киномеханика совершенно затмил бедного графа Шпанского-Шампанского, которому не суждено было пережить своего купания в апрельских водах Волги. Когда закончился последний сеанс, в полдвенадцатого ночи, новый помощник увлек Алешу на прогулку. Всю ночь они бродили по спящему городу.
Алеша, живя еще на родине, знал, что с весеннего половодья и до осеннего ледостава по широкой и хмурой камской воде и многоводным притокам Камы бегают бойкие пароходики, принадлежащие фирме «Минаев и Ханыков». Оказывается, что новый Алешин помощник Миша был сын пароходчика Ханыкова.
— Папаша мой происходит из древней дворянской фамилии, — повествовал о себе Миша. — До известной степени я могу гордиться этой фамилией, она дала России несколько ученых и путешественников, это все были ориенталисты, их тянуло в Азию, — кто знает, может быть в этом сказывалось происхождение от некоего Ханыка, или Ханыко, татарина или черкеса. Да и меня, признаться, тоже влечет на восток. Но, впрочем, об этом мы еще поговорим. Так вот, папаша мой принадлежит к наиболее захудалой линии нашей фамилии, Получив военное образование, он не избрал себе место службы в Туркестане или на Кавказе, к чему имел все возможности, но, будучи полковым казначеем, ознаменовал начало своей военной карьеры воровством столь грандиозным, что его попросили удалиться из полка. Однако неправедно нажитое состояние за ним осталось, и он сразу удвоил его, женившись на купеческой дочке Катерине Минаевой, которая родила ему четырех сыновей. Совместно с тестем он и положил начало вышеупомянутой пароходной фирме. Погрязший в коммерческих делах, папаша наш, однако, всех нас старался определить в кадетский корпус, и все мои старшие братья уже офицеры. Мне тоже была предназначена военная карьера. Вы слышите мой голос? Сейчас он уже сложился во внушительный баритональный бас, а в дни детства у меня был сладчайший альт, и я пел в хоре нашей корпусной церкви, чему способствовало еще и то, что от матери постоянно исходила церковность самая елейная, в доме вечно толклось духовенство, по всякому поводу и без повода служились молебны, вышивались облачения, соблюдались посты… Ну да ладно, к черту все это. Происхождению из столь набожной семьи обязан я тем, что наш корпусной иерей, выказывая ко мне особую благосклонность, даже назначил меня прислуживать в церкви во время службы. Шаг с его стороны неосторожный. Под внешним видом благочестия я скрывал самые глубокие в отношении религии сомнения и, решившись испытать на себе гнев божий и проверить этим истинность существования бога, совершил богохульство, самое детское: принес и положил в алтарь дохлую кошку, решив, что если бог существует, он с помощью электрического разряда немедленно сотрет меня с лица земли и ввергнет в геенну огненную. Электрический разряд, конечно, не последовал, и сомнения мои кончились, я стал убежденным атеистом, каким и пребываю по настоящее время. Но, впрочем, бог, сохранив громы небесные для каких-то более страшных преступников, обрушил на меня громы земные. Невообразимый переполох поднялся у нас в корпусе, и найти богохульника было не так уж трудно. Я вынужден был сознаться. Вызвали отца и предложили взять меня из корпуса. Тут-то я и узнал, каков мой отец. «Порядочные люди, — сказал он, — вопросами о существовании бога не должны интересоваться, и я с тобою богословских диспутов затевать не собираюсь. Но если ты не примешь церковного покаяния, клянусь, я с тебя шкуру спущу». Я поначалу отказался, но когда он с помощью старшего брата взялся за меня, я понял, что слова «шкуру спущу» имеют совсем не фигуральное, а буквальное значение. И я смалодушествовал. Впрочем, в свое оправдание скажу, что мне в то время исполнилось только двенадцать лет. Я покаялся по всей церковной форме — в монастыре, на всенощной, — это такое духовное мракобесие, что говорить мерзко. Я, несовершеннолетний, вынужден был произнести страшный зарок: обречь себя на монашество. Правда, один из двоюродных дядей Ханыковых, известный миссионер, насадитель православия среди магометан и большой знаток арабского и персидского языков, получив письмо отца о моих злоключениях, принял во мне участие, побеседовал со мной, рассказал мне о своих путешествиях по Ближнему Востоку и Средней Азии. Дядя взял меня к себе, и после годичной подготовки, когда я обнаружил, как говорили, блестящие способности к восточным языкам, меня определили в миссионерское училище в Казани, при так называемом братстве святого Гурия. Должен признаться, в одном отношении обещания дядюшки исполнились: учиться у монахов, объездивших весь Ближний Восток и Среднюю Азию, мне было во много раз интереснее, чем в корпусе. Я уже сказал, что восточные языки мне давались легко, — я знаю арабский, древнееврейский, знаю язык казанских татар, знаю турецкий и азербайджанский… Если бы учение ограничивалось языками, географией и связанными с географией задачами российской дипломатии на Ближнем и Дальнем Востоке — все это было бы вполне выносимо. Но из нас готовили попов-проповедников. Я должен был научиться опровергать все чужие религии с точки зрения догматического православия, лично мне наиболее ненавистного, так как я на себе испытал его. Нас учили искусству доказывать непоследовательность и ложь буддизма, магометанства, католичества, лютеранства, но я видел, что вся эта аргументация прекрасно поворачивается также и против православия. Эту аргументацию я и изложил в сочинении «Что есть истина?» И это — после трех лет учения в монастырской школе, за год до окончания ее, после чего я должен был идти в Духовную академию в Казани на миссионерское отделение. Ведь мне, как Ханыкову, могла открыться блестящая духовно-дипломатическая карьера!
Я пустил свое сочинение по рукам среди воспитанников старших классов. Но все это были лицемеры и карьеристы, я не нашел среди них ни одного сторонника и ни одного честного оппонента, но наушников нашлось несколько, и я снова был исключен за богохульство. Поверьте, Алексей Диомидович, я рад этому, потому что нет ничего отвратительнее, чем жить, сознавая, что ты лжешь ради выгоды, и нет ничего сладостнее полной свободы мысли. Ради этой свободы терплю я и голод и лишения. Природа не обидела меня силой — я работал грузчиком на волжских пристанях. Зимой иногда приходилось мне худо, но ничего, на всю прошлую зиму, например, мне удалось устроиться конюхом при скаковых лошадях. Один из моих братьев, который приезжал к нам для тренировки, должен был участвовать в больших военных скачках. Я вплотную стоял возле брата, его взгляд порою пробегал по моему лицу, но он не узнавал меня. А как же он тянулся перед людьми старше его по чину! Черт с ними со всеми, только мамашу все-таки жаль — она, верно, плачет обо мне…
Я очень рад, Алексей Диомидович, что мы с вами встретились, — и он вдруг своим красивым, полным голосом пропел, указывая на восток, откуда из тумана вставало уже красное солнце:
Мы вольные птицы: пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляет лишь ветер… да я…
Алеша снимал койку в доме многодетной вдовы, содержавшей угловых жильцов. В это раннее утро Алеша и Миша легли вместе, на одну койку. А когда проснулись, им показалось, что они давно-давно уже знакомы друг с другом.
Различны были их планы. Миша мечтал по Волге спуститься до Астрахани, побывать в ханской ставке в Сарае, столице Золотой Орды, об археологических диковинках которой слышал от казанских востоковедов, когда еще учился в монастырском училище; из Астрахани затем двинуться в Баку и оттуда пробраться уже в Персию. Ну, а дальше — арабские страны, Египет, а может быть, Индия…
Мечты Алеши Бородкина носили на первый взгляд куда более практический характер. Проекционный аппарат Алеше надоел, ему хотелось перейти на киносъемку, самому снимать кинофильмы. Для этого нужно было переселиться в Петербург. Представитель киноагентства, своего рода коммивояжер по распространению фильмов, в стремлениях юноши не нашел ничего неисполнимого и дал ему адрес одного петербургского «киноателье». Знакомство и дружба с Мишей помогли Алеше. Миша легко усвоил навыки киномеханика, и теперь Алеша, имея заместителя, мог ехать. Денег было в обрез, и Алеша, затянув потуже ремень, взобрался на верхнюю полку вагона третьего класса, с тем чтобы не вставать до самой столицы. Чувствуя себя после двух дней пребывания на голодной диете необычайно легким и как бы несущимся по воздуху, он слез на питерском вокзале, дошел до заветного одноэтажного дома со сплошными стеклами и надписью «Киноателье» и предложил свои услуги. После некоторых расспросов его приняли, на должность младшего механика.