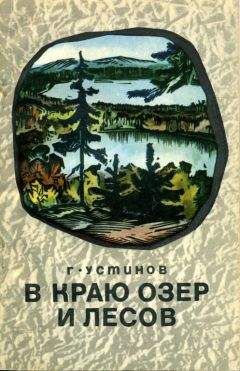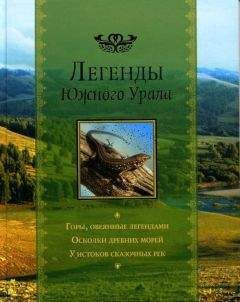Николай Верзаков - Таволга
РОДНИЧКИ
Я торопился к роднику, у которого не был лет десять или больше, предвкушая радость отдыха. Сейчас, думаю, дойду, сброшу рюкзак, разуюсь и плесну в запаленное лицо пригоршней студеной воды и, испытав освежающую отраду, не спеша развяжу мешок. Отломлю от булки кус, напитаю его родниковой прохладой и съем с ненасытным желанием.
Нагоняю таким образом аппетит, подхожу к роднику, а его нет. Туда-сюда глазами — нет. Ошибки быть не могло, место приметное. Да и дно родника еще не затянулось травой, а только заилилось и растрескалось.
Сел достал термос, задумался. Этот родник назывался Плетеным, потому что был огорожен ивовой плетенкой похожей на стенки санного короба. Плетенка не давала осыпаться краям. А сделал ее старик, которого я здесь видел однажды. Он был маленький, сухонький, борода свисала с него белым лишайником. Он только что прочистил родничок и, пока отстаивалась вода, сидел, поджав по-детски острые коленки.
— Щедра душа земли! — воскликнул он и поглядел на меня с внимательным любопытством. — Человек ли, зверь ли, другая ли животина — подходи, пользуйся, не жалко.
Земля вдруг представилась мне похожей на добрую хозяйку, которая не может отпустить гостя, не одарив его чем-нибудь на дорогу. С тех пор я стал обращать внимание на роднички и у многих находил следы рук: то края подрезаны, то камень положен, чтобы человек мог опереться при наклоне, то дно очищено и галькой присыпано.
Мне стало ясно, как погиб Плетеный. Старик, должно быть, умер. Плетень без ухода рушился. Люди подступали все ближе и ближе, отаптывали края, земля осыпалась, дно затягивалось. Струйка воды делалась тоньше и, наконец, заглохла. Родник превратился в грязную лужу и пропал совсем.
«Старик бы не дал воде уйти», — думал я и не заметил, как подошли два мальчика с корзинками грибов, прикрытых сверху ветками рябины. Одному на вид было лет десять, другому чуть больше. Они попросили пить, я молча протянул термос.
— В прошлом году вода еще была, — сказал старший.
— Откопать можно, — по-взрослому ответил другой, словно бы что-то прикидывая в уме, — только лопаты нет.
Он неподалеку нашел обломок жерди, постучал им по сухому дну и еще раз пожалел, что нет хотя бы топора. Я предложил свой топорик, заинтригованный деловитой уверенностью мальчишек, и вскоре был втянут ими же в работу. Выяснилось, что они жили возле небольшой речки и оказались мастерами по части возведения дерновых плотин, устройства запруд для купания и прочих водных сооружений. Под их руководством я затесал с двух сторон обломок жерди, который и заменил кирку.
Вначале шел сухой ил, попадались черные обломки старого плетня, потом песок и галька. Все это ребятишки выкидывали пригоршнями, словно черпаками. Через полчаса появился мокрый песок, а потом и вода. Набиралась она медленно. Мы успели по краям вбить колья и оплести их ивняком. С внешней стороны привалили земли, притоптали, и родник приобрел почти прежний вид.
Полуголые, перепачканные жидким илом, ребята плескались и визжали от удовольствия.
ЗВОНОК ВЕСНЫ
— Ци-ти, ци-ти, ци-ти…
Оглянулся. Под крышей сарая синица. Скок-поскок, боком-боком, слетела. Бросил горстку семечек. Пискнула — позвала другую. Прилетела другая. Клюют.
Самая примечательная у нас птичка. Собственно не сама, а ее песня. Идешь, привыкший за зиму к птичьему безголосью, и вдруг это самое: «Ци-ти, ци-ти, ци-ти…» — и так раз десять. Потом: «Циу-вить». Или: «ци-ти-ри, ци-ти-ри…» И опять сначала. Голосок чистый, звонкий — не кузнец, кузнечик кует маленьким молоточком по крошечной наковаленке. Задерешь голову и стоишь, слушаешь этот первый звонок весны.
Помню, сколько огорчений в детстве доставила мне пойманная синица. Двое суток она билась, цепляясь лапками за проволоку клетки, будто пыталась раздвинуть ее, и все долбила клювом, пока не разбила его до крови. А утром лежала кверху лапками.
— Не реви, — сказала мать. — Это тебе впредь наука.
С тех пор я не ловил синиц. Доверчива и хороша эта птица на воле. А поймай — нахохлится, глазки злые и при случае обязательно цапнет за палец.
С первой звонкой каплей синицы удивительно хорошо поют свою простую песню.
МЕДЯНКА
Каменистая тропа круто ведет к вершине Большого Таганая. Жарит полуденное солнце. Рюкзак кажется каменным, ремни врезаются в плечи. Часто останавливаюсь, отираю запаленное лицо. И вдруг вздрагиваю: на тропе медянка. Лежит неподвижно, возможно, думая, что приму ее за обрывок ремешка или шнурок от кеда, и пройду мимо.
Рассматриваю уплощенное тело с едва заметным продольным орнаментом, отливающим редким по красоте красновато-медным цветом. Круглый глаз на остренькой мордочке смотрит на меня неотрывно и, кажется мне, печально. Не шевельнется. Рву веточку рябины, бросаю. Ветка падает на медянку, но та кажется еще неподвижней. Снова ломаю и кидаю, потом еще и еще — медянки не видно. «Может быть, неживая?» — думаю. Снимаю ветки — лежит в том же положении. Выламываю прут, дотрагиваюсь до хвоста. Медянка неохотно, как бы через силу, сползает с тропы в траву.
Может быть, страх перед человеком сковал, не давал ей двигаться, или была больна? А я согнал зачем-то.
УЖ
Деда кусала змея на покосе. Его рассказ об этом случае я всегда слушал с внутренним содроганием и долго питал отвращение ко всему ползающему.
Как-то летом пришлось заночевать в верховьях Ая, у знакомого рыболова Шилова в землянке. Это пристанище с дерновой крышей, хорошо скрытое от постороннего глаза, он сделал сам, выйдя на пенсию, и проводил в нем время от первых проталин до белых мух.
При моем появлении он поднялся с лежанки:
— Уха еще горячая, ешь, да чай пей. — И снова свернулся калачиком, видно, намаялся за день.
Я похлебал ухи, напился чаю и лег рядом. Но сон, как всегда бывает при переутомлении, не шел. Казалось, лежу неудобно, искал подходящее положение, находил, но через минуту то же самое… Так ворочался, и вдруг показалось, что где-то совсем близко шелестит сухая трава. Поднял голову.
— Уж, — сонно сказал Шилов, поняв мое беспокойство.
— Что?!
— Уж, — повторил и засипел носом.
Остаток ночи я провел на берегу, так и не сомкнув глаз.
— Дурашка, — утром сказал Шилов. В руках он держал ужа. Пошел к реке, отпустил в заводь. Уж поплыл, блестя кожей на солнце, кокетливо подняв голову. «Ах, хорошо-то как!» — вздохнул старик и пожаловался:
— Все берега обтоптали, негде живому дыханию приткнуться. Вишь, присоседился. А мне что? Где молока плеснешь, где поговоришь — все не один.
В другой раз, придя к рыболову, спросил:
— Как уж поживает?
Старик поглядел на меня и промолчал. А вечером посетовал: «Прибил кто-то».
РУЖЬЕ
Пахнет пенками от топленого молока, кошмой, смольем и дегтем. Я на полу играю патронными гильзами. От них пахнет печеным яйцом, и этот запах мне весьма нравится. Рядом сидит и водит ушами Пальма.
На стене ружье. Мне страшно хочется подержать его в руках, но дед на этот счет строг:
— Нет-нет, лучше и не проси, нельзя.
Смотрю на ружье долго и впадаю в какое-то забытье. Дедушка трясет за плечо:
— Ишь, водит тебя, еще упадешь. — И снимает ружье с гвоздя.
От радости теснит в груди. Дед качает головой: «Ох, Вася, Вася…» Открываю затвор, вставляю гильзу, прицеливаюсь, воображаю себя охотником.
Вскоре эти игры перестали устраивать, я все чаще поглядывал через оконное стекло в лес. Настал день, когда дедушка и тут уступил — дал патрон. Я побежал за речку. Там на отмели бегали кулички. Целый час я ползал за ними. Они то отбегут, то перелетят, никак не могу прицелиться: то глаз затуманит, то воздуху в груди не хватает — боялся промахнуться. Но все же выстрелил — кулик упал. Принес домой, и бабушка его изжарила.
В те времена охота не была баловством. Скотину берегли к зиме, и всякая дичь была к столу добавкой.
В то лето я обежал все горы вокруг.
С тех пор через мои руки прошло немало ружей, пока последнее не зачехлил на вечное хранение. Ничего не могу сказать о них, кроме того, что хорошие, а то, первое, — берданку двадцать восьмого калибра, что висела на толстом гвозде, помню до последней царапинки. Чувствую при этом аромат гильз, кошмы, смолья и дегтя, вспоминаю дедушку, сидящим на дуплянке с конской сбруей в руках.
КОЛЕЯ
Я никогда не задумывался над тем, что делают зимой кроты. Казалось, спят где-нибудь в укромном отнорке. А тут в середине декабря спускаюсь с горы по канатной дороге и вижу — по лыжной колее кто-то бежит. На белку не похож, но и не мышь. Подхожу ближе — крот. Ах, дурашка, раздавят ведь! Непременно раздавит первый же, кого канатка потащит в гору — колея укатанная, свернуть не сможет, и погибнет. Вон уж едут…