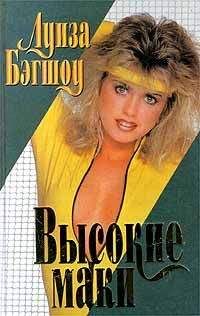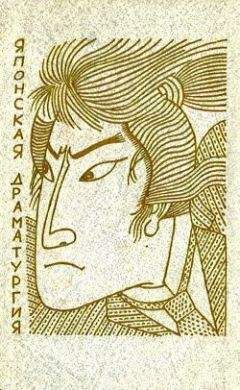Илья Эренбург - Лазик Ройтшванец
Звонок отчаянно дребезжал. Лазик прикрыл лицо руками.
— Вы хотите, чтоб я закончил? Я уже закончил. Что? Надо еще говорить? Хорошо, я попробую. Я скажу еще о национальном передвижении. Большевики, конечно, пломбированные изменники, потому что нельзя пропускать такой хорошей оказии. Им не дают иностранных кредитов? Значит, они не умеют разговаривать. Но здесь живет ваш удивительный корпус, и я теперь знаю, как поступать. В одной партии могут быть две фракции, или даже десять фракций. Это бывает и в Гомеле. Главное, чтобы все сразу подымали руки. Тогда получается железная дисциплина. В чем различие, скажем, между Игнатом Александровичем и Василием Андреевичем? Один ходит к румынам и сует им Бессарабию, а другой получает чеки от килек. Но можно же пойти и к румынам и к килькам. Это вопрос ног. А в Париже, как я вижу, на тридцать серебреников не проживешь, раз в этом «Гареме» бешеный беф-строганов. Я молю вас, отодвиньте ваш кулак! Я уже вношу конкретное предложение: если, например, взять в узелок Москву и отнести ее… При чем тут ваши руки? И если вы должны обязательно меня бить, то бейте сзади, чтоб я хоть не видел кровавых следов. Караул! Вы опоздаете на метро!..
Вдруг счастливая мысль осенила Лазика. Быстро схватил он со стола графин и стал поливать публику. Когда же кончилась вода, он метнул в зал графин, стакан, звонок. На шум пришел сторож.
— Господа, помещение снято до двенадцати. Будьте любезны немедленно разойтись!
Лазик первый подчинился его приказанию. Быстро нырнул он в дверь.
Но сейчас же голова его вновь показалась:
— Милостивый председатель, а где ваш чистый сбор на два-три голодных бутерброда?
30
На улице к Лазику подошел тощий еврейчик и дружески сказал:
— Ах, вот и вы!.. Вам, может быть, нужен пластырь? Я всегда на себе ношу: я ведь репортер «Свободного Голоса», и я должен бывать на всех эмигрантских собраниях.
— Пластырь? Вы смеетесь! Мне нужны военные перевязки, а пока что пять франков на закуску.
— Пойдемте в «Ротонду». Там подкрепитесь. Ну, теперь вы увидали, что это за публика? Вы должны бы ли притти к нам. У нас даже, если любят какого-нибудь патриарха, то не устраивают сразу погром. Вы же свежий человек, недавно из России, и вы знаете, кого там ждут. Великий князь категорически не при чем. Там ждут только выборов в парламент. Вы не заметили это го? Ну да, вы еще запуганы. Вы проживете здесь годик-другой и тогда вы заметите. Мы понимаем, что некоторые труженики и там трудятся. Нужно уметь отделить хлебец от плевел. Мы вовсе не ставим на всем крест. Возьмите писателей. Они продались, это само собой понятно. Но есть исключения. Кто же из нас не чтит Пушкина или даже Айвазовского? Словом, с нами вам будет легко сговориться. Вы прочтете небольшой доклад…
Лазик прервал его:
— Ни за какие бананы! Лучше уже прыгать с хвостом.
— Ну, не волнуйтесь! Подкрепитесь сандвичами. Сейчас мы пойдем в редакцию. Я вас познакомлю с заведующим экономическим отделом. Это умница, голова, первый социолог. Европейская знаменитость! Он вам все растолкует лучше меня. Я ведь не политик, я, собственно говоря, комиссионер. Вот, если вам понадобится, например, квартира с крохотными отступными или хорошие дамские чулки по двадцать семь франков за пару, тогда вспомните Сюскинда.
Заведующий экономическим отделом, Сергей Михайлович Аграмов принял Лазика чрезвычайно любезно. Он долго распрашивал его о состоянии посевов, о росте оппозиции в Красной Армии, о ценах на модеполам, даже о количестве абортов, при чем сам же отвечал на все эти вопросы. Наконец, Лазик заинтересовался:
— Вы таки европейская голова! Я гляжу и удивляюсь: как вы можете сразу и говорить и писать? Это, наверное, фокус. А можно спросить вас, какой словарь вы там сочиняете?
— Я записываю ваши слова.
— Мои слова? Это уже два фокуса. Ведь я все время молчу, как дрессированная рыба.
— Вот послушайте: «Беседа с крупным советским спецом. На первый же наш вопрос о московских настроениях X ответил: «Русский Набат» не пользуется авторитетом. Население с нетерпением ждет…»
— Вы можете дальше не читать. Тот с дамскими чулками мне уже объяснил, кого ждет все обширное население.
Тогда Аграмов сострадательно взглянул на Лазика:
— Я вижу, что вы насквозь пропитались советской заразой. Это ужасно!.. Пионеры… Октябрята… Растление детских умов…
— Извиняюсь, господин социолог, но мне уже тридцать три года, и я даже был полтора раза женат, считая за половину этот случай из-за клецок.
— Вам тридцать три? Вы вдвое моложе меня. Политически вы младенец. Как ужасно, что огромной страной управляют такие дети! Вы сейчас будете ссылаться на Маркса. Но разве вы знакомы с первоисточниками? Страна с отсталым хозяйством не может претендовать на мировую гегемонию. Эти щенки думают, что они открыли Америку. Они случайно захватили власть. Они у меня отняли кафедру. Они должны уйти. Я могу сейчас же доказать вам это цифрами.
— Нет, не доказывайте. Я очень плохо считаю. Я на кроликах просидел три дня. Потом зачем же нам в таком почтенном возрасте истреблять себя какой-то арифметикой? Вы думаете, мне вас не жаль? Даже очень. Вы, такой европейский счетчик пропадаете с дамскими чулками. Я понимаю нашу ученую грусть. Я, конечно, не могу с вами спорить, потому что вы, наверное, кончили четыре заграничные университета, а меня до тринадцати лет кормили одним опиумом, так что я из всего Маркса знаю только факт и бороду. Но все-таки кое-что я понимаю. Ведь не один Маркс был с бородой. Я, например, могу осветить ваше позднее положение одной историей из Талмуда. Вы же не скажете, что Талмуд это большевистская выдумка. Нет. Талмуд они даже хотели изъять из «Харчсмака», и ему еще больше лет, чем вам. Так вот там сказано о смерти Моисея.
На личности, кажется мне нечего останавливаться. Вы ведь только заведуете одним отделом и значит вас здесь десять или двадцать умниц. А Моисей был всем: и как вы, социологом, и генералом, и даже писателем, словом, он был европейской головой. Но так как евреи пробродили, шуточка, сорок лет по пустыне, он успел состариться и, не принимайте это за справедливый намек, ему пришло время умирать. Бог ему спокойно говорит: «Моисей, умирай», но тот отвечает: «нет, не хочу». Это же понятно!.. Так они спорят день и ночь. Когда я об этом читал в хедере, у меня волосы становились дыбом. Наконец, богу надоело. Он говорит: «ты был полным вождем моего народа, но ты стар и ты должен умереть. У меня уже готов кандидат. Это Иегошуа Навин. Он моложе тебя, и он будет полным вождем». Моисей весь трясется от обиды. Он говорит: «но я же не хочу умирать. Хорошо. Я не буду больше вождсм. Я буду гонять простых баранов. Но только позволь мне еще немножечко жить». Что же, бог смутился: тогда еще на земле было мало людей, и он, наверное, не успел привыкнуть к человеческой смерти. Решено: старый Моисей будет погонщиком баранов, а молодой Иегошуа будет полным вождем. Вы слышите, что за обида? Это похуже вашей кафедры! Весь день несчастный Моисей гонял баранов, а вечером все собрались у костров, чтобы слушать умные разговоры. Все, конечно, ждут, что Моисей начнет свою лекцию, но Моисей молчит, Мои-сей бледнеет, как эта стенка, и со слезами Моисей говорит: «я стар, и меня прогнали. Вот вам Иегошуа, он теперь знает все — и куда нужно итти из пустыни, и как получать манну, и как жить, и как радоваться, и как плакать». Что же, народ — это всегда народ. Они для приличия повздыхали и пошли к Иегошуе, а Иегошуа в это врсмя уже разговаривал с богом обо всех текущих делах. Моисей так привык к этим беседам, что он тоже подставил ухо. Но нет, он ничего не слышит. Он теряет терпение. Он кричит Иегошуе: «ну, что тебе сказал бог»? Иегошуа молод, и, значит, он еще петух, ему наплевать на стариковские слезы. Он и отвечает: «что сказал, то сказал. Когда ты был полным вождем, я, кажется, тебя не спрашивал, о чем ты беседуешь с богом. Нет, я тебя просто слушался, а теперь ты должен слушаться меня». И Иегошуа начал первую лекцию. Моисей слышит, что Иегошуа еще молод, то не знает, об этом забыл, и он хочет вмешаться. Но нет у него больше ни огня, ни разума, ни настоящих слов. Он говорит, а народ его не понимает. Еще вчера они его носили на руках, а сегодня они ему кричат: «ты бы лучше, старик, пошел к твоим баранам». Вот тогда-то не выдержал Моисей. Кто знает, как он любил жизнь, как не хотелось ему умирать! Но он все-таки не мог пережить свое время. Он так громко крикнул, что порвал все облака: «Хорошо, я больше не спорю. Я умираю». Конечно, господин социолог, вы не Моисей, и я вовсе не хочу вашей преждевременной смерти. Нет, я знаю, что каждому человеку хочется жить, даже мне, хоть я самый последний пигмей. Но вы не должны сердиться на какого-нибудь нахального пионера. Он же не виноват, что ему только пятнадцать лет. Он молод, и он крикун, и он плюет на все. Он, может быть, на вашей дубовой кафедре устраивает танцы народностей. Что делать — на земле нет справедливости. Но, если вы такой умница, почему вы ему кричите «вон»? Он же не уйдет, а вы уже ушли, и вы с баранами, и точка. Пошлите-ка лучше за бутылкой вина, и мы с вами выпьем за нашу мертвую молодость.