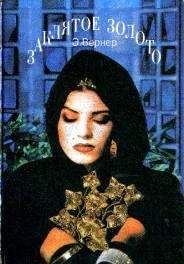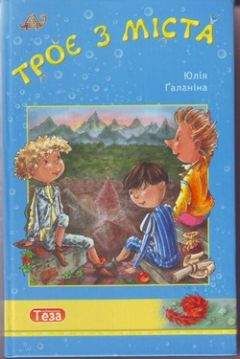Екатерина Шереметьева - Весны гонцы 2
Повскакали, зашумели:
— Как? Что? Зачем? Почему?
Соколова смеялась:
— Ну, не соглашайтесь! Не надо. Но разве нас не восхищает, не увлекает сильная любовь к нам? И разве свое ответное увлечение любовью мы никогда не принимаем за любовь?
— Больше свойственно женщинам, — вставил Рудный хитро.
— Согласна. Красота, талант, эффектность, как говорится, успех человека у окружающих очень привлекает наше тщеславие. И, представьте, тоже может показаться любовью. Кстати, чаще случается с мужской половиной.
Рудный поклонился:
— Забили гол.
— А когда блестящий талант и умница неукротимо полюбит нас — тут уж совсем трудно не потерять разум. Благодарность, уважение и просто влечение мы тоже принимаем за любовь. Да мало ли!..
Валерий, с улыбкой подозрительно равнодушной, спросил:
— Но если нет влечения?
— Так это и не то, о чем мы сейчас говорили. Не любовь.
— А что же важнее в настоящей любви? — Голос у Зишки тусклый, вот-вот заплачет. — Душевная привязанность или?..
— Для каждого по-своему. Разные физиологические и психологические свойства, интеллектуальный уровень. В настоящей любви все прекрасно — все естественно и чисто.
— Так как же, Анна Григорьевна? — растерянно оглядывался на всех Женя.
Соколова смеялась:
— Не знаю. Сопротивляйтесь! Попробуйте! По мне — лучше один хороший спектакль, чем десять плохих. Одну большую любовь не заменят и десять любёночков!
— Да как ее найти — большую-то?
— Как отличить настоящую?
— Сопротивляйтесь. Настоящая все равно победит. И станет богаче, крепче, дороже вам. А вообще, друзья мои хорошие, чем человечней мы будем воспитывать детей, тем больше станет у нас красоты, поэзии, а значит… Ромео и Джульетт. Детей надо растить поэтами.
— Как? Чтобы все писали стихи?
— Не все поэты пишут стихи. Не все, кто пишет стихи, — поэты.
Помолчали.
— А если безответная любовь?
— Не знаю. Нет рецептов, Женя. Можно покориться, можно завоевывать…
— Мирными средствами, — вставил Рудный, — без агрессии, оккупации, и так далее.
Соколова рассмеялась:
— Ну, Жене я бы простила агрессию!
Брови у Жени ушли к волосам:
— Почему?..
— А вот потому! Ну, поговорили — и хватит. Давайте работать.
— Уже двадцать минут восьмого.
Почему так брезгливо посмотрела Соколова на Володю?
— Даже двадцать три.
Глава двенадцатая
Заблудился на Млечном
Пути
И попал на чужую звезду…
Хлопнула входная дверь. Алена прислушалась — ушел. Медленно поднялась, постояла в узком проходе между своей и Сашкиной кроватью, посмотрела в синее окно: какие короткие дни — тоска! Форточку открыть — накурил.
Надо привести себя в порядок — ох, тошно! — и отправляться на занятия кружка. Хватает еще нахальства учить других, когда сама ничегошеньки не можешь. Хоть бы забыть — так нет! В ушах стоит дрожащий, жалкий голос: «Хочешь, я прочту стихи?..» Губы склеивались, язык цеплялся, как наждачный, а говорила: «Вот она встала перед тобою — жизнь, наполненная до краев…» И это Дуня? Кошмар!.. А сцена с Колей — позорище!
Алена передернулась, как от кислятины, ближе придвинулась к зеркалу. Серая, мятая, тусклая, волосы, как старый парик. Гадко смотреть! «Не грусти, мать, добьешься!» — сказал Джек. Другие ребята утешают. Гриша Бакунин выпалил сердито: «Если через три спектакля не выйдешь на первое место — перестану уважать». И перестанет. Что делать? Что? Соколова говорит: «Надо успокоиться. Зачем себя дергаете? В вашем внутреннем монологе так и слышится: „Ой, надо заварить чай! Ой, унять этого „мушкетера“! Ой, надо приглядеться к Вале! Ой! Выбросьте это „ой!“. Вы сильная, вы безошибочно, как талантливый воспитатель, чувствуете каждого: этого — подбодрить, приласкать, этого — одернуть, этого — заставить задуматься. Потому все слушаются Дуню. Потому „Налево“ отдает ей лучшее стихотворение. Она — как бы совесть для ребят. По ней все равняются. Вы находите силу только в последней картине и очень убедительны в ней. Успокойтесь в начале, почувствуйте прелесть жизни — и конец еще поднимется. Поверьте себе. Вы можете сыграть Дуню, как Женя говорит, „на всю катушку“! Успокойтесь!»
«Совесть. Это говорил Глеб», — подумала Алена. И в ту минуту показалось, что Дуня и вправду еще выправится. Все на разборе спектакля сказали ей добрые слова. Рудный проводил почти до дому.
Разговаривал он весело, но Алена видела, что глаза у него старые.
— Уткнулись в свое личное со свойственной вам страстью. Нужно оторваться от себя, приподняться, оглянуться вокруг. И под ноги надо смотреть — без конца скользите, а я нервный. — Рудный шутил мимоходом, как Глеб. — Во-первых и в-главных — вокруг много интересного. Для актрисы особенно. Во-вторых, увидеть себя, свое в соотношении с миром — ух, как полезно! Вроде отрезвляющего душа.
Алена чуть не упала. Рудный поддержал ее.
— Вы всегда так ходите?
Она ответила сердито:
— Одна никогда не падаю. А когда разговариваю… Почему вы считаете, что уткнулась?
— Не педагогические это поучения, а крик души, Лена. Миллион горчайших заблуждений, синяков, шишек… и даже раны, представьте. Обидно, если это никому не поможет! Давайте рассуждать, как посторонние люди. Пока, подчеркиваю: пока! Дуня не новый рекорд в достижениях актрисы Строгановой. Куда-то делись прелестные качества этой актрисы — жизнерадостность, глубокий интерес к людям. Все это необходимо Дуне. Важно не выплескиваться, воспитать самообладание, сдержанность. Мать честная, смотрите же под ноги! Нет, стойте. Взгляните-ка!
Солнце на минуту прорвалось сквозь тучи, переплетение черно-белых ветвей, как вышивка, засверкало на сером небе.
— Люблю солнце зимой. Сколько его в Сибири!.. Буду приезжать на постановки в ваш Алтайский молодежный за солнцем. Дальше не пойду — некогда. Еще одно только. Скажем образно: берегите огонь своей жизни. Вы весьма пылкое, неуравновешенное создание. На ногах даже нетвердо стоите. Это не правило, конечно, однако… То, что не исчерпано до дна, живет в душе богатством человека и актера. А что исчерпано — исчерпано. Иногда оставляет дурной осадок. Гасит этот самый огонь нашей жизни… В каком ухе звенит?
— В левом.
— Ну, смотрите, если не исполнится! — У Рудного помолодели глаза. — Бегу: свидание с дочкой — опоздание не прощается! Дуню вы еще сыграете так, что небу жарко… — Уже на ходу помахал рукой.
Все старались ободрить ее.
Только Сашка… Вчера после спектакля хотелось умереть, заболеть, чтоб хоть месяц проваляться без сознания. Он всю дорогу молчал, заботливо вел под руку, а только вошли в свою комнату:
— Ты все-таки сама виновата — Дуня-то…
— Оставь меня! — крикнула Алена.
— Тише! Спят за стеной дети, старуха… — Это значило: «Ты опять ни о ком не думаешь, эгоистка».
Алена сцепила руки, крепко зажмурила глаза.
— Молчи.
— Ну, знаешь!.. Вот это тебе и мешает…
— Замолчи, или я уйду! — Душили уже не рыдания, а злость.
— Что?!.
Не так хотелось уйти, как сделать ему больно.
— Уйду к девчонкам.
Сашка вздрогнул, выпрямился, лицо почернело, глаза ненавидели ее:
— От мужа уходят раз и навсегда.
Будто разъяренные муравьи заметались в голове, жалили, жгли.
— И не собираюсь возвращаться! — Алена рванула брошенную на кровать косынку, кинулась к двери.
— Не сходи с ума!
Сашка сзади притиснул ее локти к телу, обхватил, поднял Алену, будто куклу, и переставил дальше от двери, загораживая собой узкий проход между кроватями.
— Пусти… — Если бы она могла от него вырваться. Дышать нельзя в таком злом воздухе. — Пусти!
— Перестань. Так нельзя…
— Пусти меня.
— Подожди до утра. Мы оба сейчас… Ведь не поправишь.
— Не поправишь!
Алена отбивалась, но руки у него железные. Назло говорила невесть что:
— Из-за тебя завалила Дуню! Все равно я очень талантливая! Понимаешь: очень, очень! Сам эгоист, не любишь, хочешь сделать из меня курицу! Не дамся! Ни за что! Я талантливая.
Потом растаяла в его горячей нежности. И от всего этого мутно. Нехорошо.
Алена нетерпеливо рвала гребнем спутанные волосы. Ничего не поправишь. Как страшно! Неужели никогда больше не быть крепкой, смелой, умной, талантливой?.. Никогда. Завалила Дуню. Завалила, и что делать? Что? Завтра опять «20 лет спустя». Опять стараться — и не мочь, будто стиснута, и не вздохнуть, и в голове каша, и такой нападает страх… Успокоиться. Как? Если страшнее, чем было на первом курсе? Хоть один бы спектакль без Сашки! Но даже если он заболеет, отменят: Колю-то играть некому.