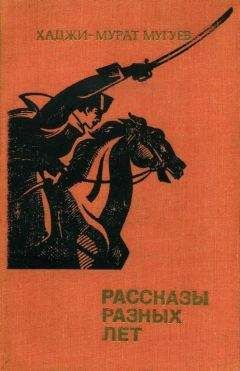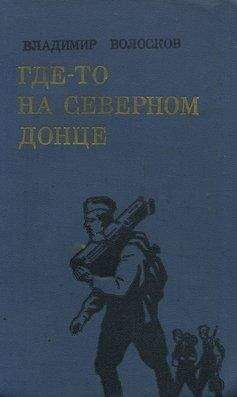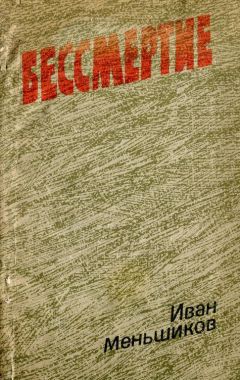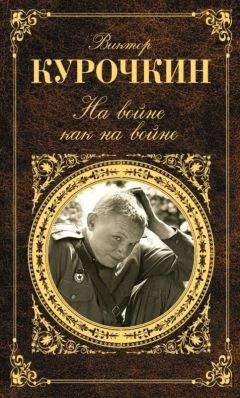Василий Оглоблин - Кукушкины слезы
— Нет, мне надо было бежать...
— Вы плохо говорите по-немецки. Вы немец?
— Нет.
— Вы славянин? Вы — поляк? — В глазах ее вспыхнуло нетерпение.
— Вы можете либо сдать меня в руки полиции, и меня завтра повесят, либо помочь мне. Не знаю почему, но я рассчитываю на вашу помощь. Только на вашу, иначе я погибну. Меня ищут. Куда я сунусь в этой полосатой форме с бритой наполовину головой каторжника? Я — русский.
Бакукин выпалил все это сразу и ждал, искоса посматривая на Крошку Дитте. Его слова, кажется, ошеломили ее. При слове «русский» она вздрогнула, даже приостановилась, пристально всматриваясь в Бакукина. По ее красивому лицу судорожно метнулось изумление:
— Русский? Первый раз вижу живого русского.
— До этого видели только неживых?
— Да нет, — усмехнулась она, — не видела никаких.
Они шли по густому сумрачному саду, разбрызгивая ногами лунные лужи. Узкая аллея петляла. Из темных зарослей тянуло предутренней сыростью и сладковатым запахом гниющей древесины.
— Сад фрау Пругель, — пояснила она. — Здесь я гуляю по вечерам, иногда днем. Чем же я смогу помочь вам? Никогда не думала, что я еще могу кому-то пригодиться.
— Мне нужна машинка для стрижки волос и любая одежда. Можно остричь ножницами. Больше ничего.
— Вы сегодня ели?
— Нет. Кругом развалины, и я ничего не нашел.
— А вчера?
— И вчера тоже.
— Бедненький, как вас зовут?
— Вообще-то Сергеем, Сережей, но здесь все звали Иваном, Ваней.
— Хорошо, Ваня, я постараюсь помочь вам. Я ведь тоже не немка. Я полька. А зовут меня, точнее звали, Богуслава. — Она улыбнулась. — Я обо всем расскажу. Потом, позднее, в подвале. Вот он. Это совсем рядом, и я буду приходить к вам. Лезьте и не выходите. Ждите меня.
Она показала Бакукину на небольшую полузасыпанную щебнем щель в нагромождении руин. Он опустил ноги. Крошка Дитте схватила его за руки, и скоро носки ее лакированных туфель тускло сверкнули у него перед носом.
— Я приду, — прозвучал над головой ее голос.
Стало тихо. Лунные пятна вверху погасли — девушка заслонила чем-то щель.
— Ну вот, — сказал сам себе Бакукин, — ты либо в безопасности, либо в западне...
В подвале воняло гнилью и мышами. Воздух был густой, но сухой. Он шел ощупью, постоянно натыкаясь на невидимые столбы и перегородки. В одной из ниш под ногами зашуршала солома. Прощупав ее, он лег и задумался, а потом уснул.
И приснилось ему, будто он дома, в сибирском селе, лежит на запашистом луговом сене, застланном овчинным тулупом. В щелястые двери заглядывает нераннее уже солнце. За дверями лениво кудахтают куры, крик петуха долго и неподвижно висит в сонной тишине. Он ни о чем не думает, ничем не озабочен, просто хорошо выспался и лежит, нежится, наслаждается теплом и покоем. Он только вчера приехал в отпуск, впереди месяц отдыха в родном доме. Двери сарая осторожно открываются, входит мать с кринкой в руках. На матери полинялый цветной халатик, а в цветах — солнце и капельки росы. Он смотрит на мать с восхищением и радостью: такая она еще молодая и красивая, только горькая складка в губах притаилась и глаза печальные. Любуясь мамой, он пьет густое душистое молоко. Пахнет оно луговыми травами и спелым летом. «Спасибо, мамуля, — говорит он ей и бережно обнимает за тонкую талию, — пойдем в дом». И они выходят в зной и тишину. На дворе — медовое лето. В небе неподвижно висит жаркое полуденное солнце. Сергей любовно смотрит на мать, а ее уже нет. Перед ним стоит, улыбаясь, Богуслава. Она берет его за руки и тянет вниз, к реке. Буйно разросшаяся огородина скрывает от них тропинку, но он знает ее с раннего детства и найдет с закрытыми глазами. По селу, поднимая копытами ленивую уличную пыль и бодая воздух, бредет на обеденную дойку стадо коров. Теплые запахи хлева, парного молока долго висят в неподвижном воздухе. «Ваня, пойдем в Яю, — шепчет ему Богуслава и тянет его к реке, — пойдем, милый». Машут метелками и перешептываются прибрежные камыши, заливаются звонкие пичуги камышницы, вспыхивают радугами росинки. Богуслава раздевается. Вот она, натягивая на голову платье, уже оголила красивые длинные ноги; платье поднимается выше, выше; ему неловко подглядывать за ней, и он отворачивается. Солнце брызжет ему в глаза, слепит...
Открыв глаза, он увидел Богуславу. Обхватив голыми руками колени, она сидела на соломе и в упор смотрела на Бакукина. Чуть поодаль, на фруктовом ящике, горела толстая сальная свеча. С минуту они молча смотрели друг на друга. Богуслава была еще совсем молода и очень красива. Изумрудно-золотистые глаза ее показались Бакукину серьезными и немного печальными. Густые пепельно-русые волосы пышно рассыпались по плечам. Именно такой он видел ее всегда на подоконнике, когда проходил по утрам с командой смертников мимо особнячка с колоннами.
— Выспались? — ласково спросила она по-немецки. — Вы так тихо спите, что я перепугалась. Видели что-нибудь во сие?
— Вас видел.
— Правда?
— Да. Сначала была мама, а потом вместо мамы стали вы.
— Интересно, какая же я была?
— Молодая, веселая и красивая. Вы звали меня купаться в реку со странным названием. У нас в России таких названий нет.
— Как же называется река?
— Забыл.
— А вы припомните, это очень интересно...
— Нет, не вспомню.
— Я была голой?
— Не совсем.
— Этот сон к несчастью. Мне будет очень, очень плохо. Ну ладно. Вот поешьте, я кое-что принесла, правда, все сухое и холодное.
Пока Сергей ел вареные картофелины и бутерброды с сырам и фруктовым повидлом, Богуслава рассказывала:
— Утром, как всегда, прошли они. Их было десять. Я спросила у однорукой обезьяны: «А где же беленький «рябчик»? Он огрызнулся таким страшным ругательством, что мое окно закрылось само собою. Конвойных было уже не трое, а шестеро. И все мрачные, злые. А мне стало весело. Я хохотала им вслед. Я-то знаю, однорукая горилла, где беленький «рябчик». Ха-ха-ха.
Она засмеялась мило, непринужденно, совсем по-детски.
— Десять, говорите, было? А ведь должно быть одиннадцать. Значит, старик Карл поплатился за меня...
Волнение Бакукина передалось Богуславе. Лицо ее стало печальным, нахмуренным.
— Да, да, того старичка, что шел всегда справа от вас, тоже не было. Это Карл? Он немец?
— Да, это Карл. Ему я обязан жизнью. Если бы я не убежал, меня среди них тоже не было бы. Карл помог мне.
Бакукин рассказал, что произошло у воронки. Она задумалась. Долго молчала. Дотронулась осторожно до его руки, взяла кончики пальцев, крепко пожала их.
— Да, немец и спас русского. Как все сложно в мире. Вы не бойтесь меня. Я никогда вас не предам, даже под пытками. — Она грустно улыбнулась. — Я вижу, душой чувствую, что вы хороший, добрый парень. А вы не из простых людей, нет-нет, простые голодные люди не едят так, как вы. Скажите, что я не права? Если хотите узнать человека, посмотрите, как он ест, и вы узнаете его. У вас мягкое, нежное сердце и широкая душа. Я весь день сегодня думала о вас. Вы разбудили во мне Богуславу, которая давно умерла.
— Как мне звать вас?
— Для вас я Богуслава. Только для вас. Для остальных — Крошка Дитте. Так нарекла меня фрау Пругель. «Как звать тебя, крошка? — спросила она, когда меня привезли сюда с рынка невольниц. — Ты прелестна!» — «Богуслава, — ответила я. — Богуслава». — «Мой бог! — воскликнула она, в ужасе всплеснув руками, — какое варварское, какое кощунственное имя! Богу слава! Боже мой! Какое кощунство! Отныне, крошка, ты будешь Дитте. Крошка Дитте. Запомни».
Она говорила тихо. Слова были похожи на вздохи, исходящие из глубины души. Ее темные, золотисто сверкающие глаза то озарялись мгновенными вспышками, то угасали, и тогда в их глубине тихо светилась щемящая печаль обиженного ребенка.
— Так я стала Крошкой Дитте. Вы не презирайте меня.
— Ну что ты, Богуслава.
— Раньше мне всегда казалось, что все окружающие меня — и в самом деле люди. И только теперь я поняла, как мало их вокруг, как они редки, настоящие люди, и сколько вокруг злых, эгоистичных, подлых, мелочных и просто жалких существ, облекшихся в личину людей. Что-то случилось со мной, Ваня... нет! Сережа, после встречи с вами... Сама не пойму — что, но случилось. Вы пробудили во мне воспоминания...
Пламя свечи колебалось, странно меняя черты ее лица. Вдруг она приблизилась к Бакукину, спросила быстро:
— А вы боитесь смерти?
— Боюсь, — не раздумывая, ответил он.
Она посмотрела недоверчиво, испытующе.
— Неправда. Вы же откапывали бомбы. Я знаю. Вы могли каждую минуту умереть. Когда вы бежали, вас тоже могли убить.
— Когда я бежал, я думал о жизни, а не о смерти, да и бежал-то я потому, что хотел жить, а не умирать.
— Жить, — задумчиво произнесла она, — жить... А как вы думаете, надо бояться смерти, если не хочется жить?