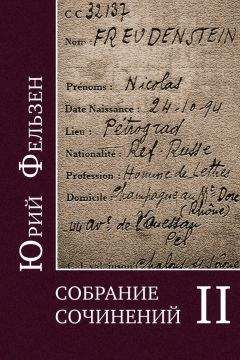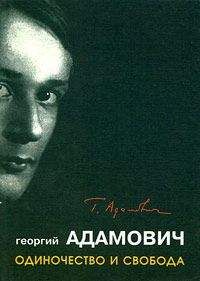Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
Мы приехали к вечеру, и в пансионе нам сообщили о необычайной нашей удаче («quelle veine vous avez») – что как раз открытие казино. Я предложил Леле пройтись до обеда и посидеть на воздухе, в кафе, которое еще в Париже ей восхищенно и многословно описывал (выхваливая, точно свое), но Леля предпочла отдохнуть и себя привести в порядок. Бобка сразу исчез, кажется, ушел куда-то звонить отцу по телефону, и я отправился один по знакомой уже дороге. Было ветрено, прохладно, сыро – впереди меня рассудительный господин доказывал своей даме, что бессмысленно открывать казино к самому концу сезона. Они также направлялись в кафе, и я – из какого-то озорного любопытства – занял соседний с ними обоими столик. Любопытство вызывалось дамой, еще молодой – бледной, тонкой и высокой, как иные модные танцовщицы – и по акценту несомненно русской. Впрочем, говорила она немного, только отвечала – и то рассеянно, по-видимому, часто невпопад. Спутник ее, фиолетовый от аперитивов, плотный и лысый француз, с седеющими усами, с розеткой почетного легиона, старался ее втянуть в нелепый спор о России, нападая довольно безобразно и рисуясь вескими своими знаниями и доводами: «Un peuple merite le regime qu'il a, vous, les Russes – c’est Lenine ou bien Ivan le Terrible… voyez ceux qui entouraient ce pauvre tzar, its Font tous abandonne, c'etaient tous des laches, laches, laches». Возможно, он просто ее дразнил, и бледная дама, по примеру множества других эмигрантских женщин, была для иностранца «du meilleur monde» и, значит, «из царского окружения», и к ней непосредственно относились оскорбительные его слова – во всяком случае, она еле слушала, спорила вяло и нехотя и незаметно переглядывалась со мной, как-то слишком выразительно опуская бесцветно-голубые глаза и показывая выставленные вперед, чуть-чуть длинные верхние зубы. Мне захотелось вступить в их спор, ее поразить, что я русский и с нею как бы заодно, а его очаровать достойными, дельными и для меня выигрышными возражениями. Но времени почти не оставалось, меня тянуло поскорее к Леле, и не было сил преодолеть незнакомство и трудность первого смелого шага. Зато на обратном пути, начиненный неиспользованным зарядом, я романтически вообразил денежную зависимость бедной русской женщины (и, пожалуй, не ошибся), и что богатый француз «за свои деньги над нею куражится», и как я Леле передам это редкое, из настоящей жизни, задевающее, печальное наблюдение. Может быть, оно и не являлось таким удивительным и особенным (часто я преувеличиваю то, что именно для Лели готовлю – от огромности для меня ее же безмерно-вдохновляющего резонанса), или просто я не вовремя рассказал, но Леля, с вежливым, обидно-искусственным вниманием, меня выслушала, нетерпеливо (лишь бы не продолжать) кивнула головой и вернулась к прерванному с Бобкой разговору – о телефонных новостях, о здоровьи его сестры. Я был этим как-то несоразмерно-остро уязвлен, потому что заранее уверился во впечатлении и цель его и весь свой порыв считал переполненными доброжелательностью, дружественностью и благородством. Притом я себе казался – из-за неловкого своего вмешательства – чужим и лишним во взрослом Лелином и Бобкином разговоре, и это невыносимое ощущение продолжалось до самого утра и становилось всё более обоснованным.
Мне вдруг представилось, что я, как это бывало и раньше, придрался к мелочам и что ничего еще не изменилось – ради проверки я уговорил Лелю (и против желания, из вежливости, конечно, и Бобку) сразу после обеда пойти в ту самую лесную аллею, от которой я опять ожидал решающей союзнической помощи. Леля согласилась без оживления и только заботливо спросила:
– Боб, милый, а вам не будет холодно?
Всю дорогу, с необыкновенной для нее и ничуть не иронизирующей мягкостью, Леля переспрашивала об одном и том же, и я, терзаясь, гадал, почему она не заботится обо мне, одетом точь-в-точь как Бобка, но явно менее стойком и здоровом, и остановился на предположении, пожалуй, единственно утешительном – что Леля считает меня виновником легкомысленной прогулки и потому так вызывающе и так односторонне заботлива. Мы прошли мимо сияющего, белого, шумного казино, на уровне озера – от него струйками долетал резкий сырой холод, – и внезапно Леля обрадовалась:
– Боб, а все-таки я для вас кое-что и придумала.
Она ловко сбросила с себя плотную теплую кофточку и накинула левый ее рукав на левое Бобкино плечо, а правый на свое правое – им приходилось крепко придерживать кофточку (каждому с краю, крайней своей рукой) и друг к другу тесно прижиматься, – мы опять вступили в темную полосу, где оба они казались (Бобка, широкий и большой, Леля, меньше и уже, и облегавшая их кофточка, косо спускающаяся от Бобкиного плеча к Леле) уродливым четырехногим животным. Я шел справа от Лели, до нее не дотрагиваясь, обиженно подчеркивая свою отстраненность и чистоту – впрочем, если бы не было Бобки и странного Лелиного поведения, я бы сам к ней тесно прижался, и никакой бы не появилось презрительной холодности и чистоты. Мы наконец вошли в любимую мою аллею, черную, страшную, с каким-то воющим гулом невидимых сухих листьев, и я подумал, что в такой темноте, в таком зловещем, уединенном месте должна скрываться опасность (хотя бы внезапного нападения) и что нам, обоим мужчинам, следовало бы позабыть о соперничестве и согласно Лелю оборонять. Точно оправдывая подобные мои мысли, кто-то, совсем вблизи, направил на нас фонарик – я, как никогда, осмелел и уже приготовился наброситься первый, но перед нами оказался высокий господин в смокинге, по-видимому, мирно шедший в казино, и при свете его фонаря я неопровержимо-ясно увидал, что Бобка свободной рукой Лелю обнимает и гладит – с бессознательной мгновенной хитростью я догадался немного отстать (раньше, чем свет исчез) и столь же неопровержимо убедился, что и Леля Бобку обнимает.
У меня возникло желание язвительно ее спросить «ну, как же вы теперь, согрелись», уколоть, показать, что вижу и знаю, однако я побоялся неловкости, несвоевременности выступления и – в который раз – по-слабому промолчал. Боль еще не появилась, только предвиденье ее длительности, ее безмерной силы и неумолимости, какого-то соответствия ее тому, что сегодня происходит или может произойти, и с каждым новым ударом я всё удивленнее себя спрашивал, до чего же эта боль дойдет, сколько же я перенесу, а пока – до боли – лишь безрассудно-весело опьянялся, как опьяняются люди разрастающимся шумом оркестра, перекрикивающим осмысленную мелодию, или громкими, разрушительными событиями, или же собственной возможной гибелью – кому-то, неизвестному и во всем виновному, назло.
Мы повернули и пошли быстрей, чтобы попасть на «открытие» и согреться. Открытие вышло неудачным: рассудительный лысый француз, уже находившийся здесь со скучающей своей спутницей, разумеется, был прав, и публики собралось немного. Казино походило на другие второсортные подобные же заведения – обеденный зал, танцевальный, два или три игорных, веранда, в такую погоду лишняя – на всем ложный торопливый блеск и за этим что-то кое-как сколоченное, безвкусно покрашенное, напоминающее русские дачи. Устроителей и помощников их – музыкантов, лакеев, дансеров, – кажется, больше явилось, чем гостей, и они, как могли, изображали оживление, куда-то бегали, друг с другом танцевали и старательно дули в трубы, владелица казино, моложавая, рыжая, чрезмерно декольтированная дама, встречала гостей у веранды и нехотя, еле скрывая досаду, улыбалась тем, кого приходилось отпускать, кого отпугивали огромные, наполовину пустые залы.
Я пригласил Лелю на медленный фокстрот – это иногда выходило у нас неплохо, – но Леля раздраженно поморщилась:
– Неудобно выступать первыми, подождем следующего танца.
Однако на следующий танец ее пригласил Бобка, и она без возражений встала и с ним пошла – я уверен, Леля не заметила моего приглашения, забыла о нем и нарочно обидеть не хотела (как бы ни относилась сейчас к Бобке), но меня взорвала именно ее забывчивость, и я по-детски дал себе слово никогда, никогда с Лелей не танцевать.
Мне оставалось на них смотреть и вдруг нечаянно открыть, какие оба они сияющие, как им удобно и подходит вместе и сидеть и танцевать. Я сделал и другое наблюдение, более для себя жестокое: лишь только они удалялись, сейчас же их объятие становилось неприлично-грубым и откровенным, и щека припадала к щеке (я даже ощутил за Бобку сладостную, бархатную нежность Лелиной кожи), приближаясь же ко мне, они, точно сговорившись, точно став сообщниками (меня всегда оскорбляет это любовное против всех сообщничество), ненадолго отстранялись, но у Лели в глазах был давно знакомый, необманывающий, какой-то затуманенный блеск, теперь казавшийся противным и неумолимым. От этой опасной, самой враждебной и чужой мне Лели, наконец осуществлявшей то именно, чего я с первого дня смутно и слепо ждал – как зачарованное животное, с покорным плачем влекущееся в раскрытую им западню, – от Лелиного жадного вызова, обращаемого к другому, на меня налетел забытый с давнего времени, похожий на детские кошмары, непреодолимый страх беззащитности – что я вязну, что не к кому обратиться, что никто не придет помочь. Боль, настоящая телесная боль – смена озноба и дурноты – теперь уже до меня дошла и проникла повсюду (в голову, в грудь, в живот), и еще другая, непередаваемая, боль – от невозможности с Лелей дальше сидеть или же встать и уйти, умолять ее или разругаться, от одинаковой неверности, гибельности каждого шага, каждого мне представляющегося положения. Бобка и Леля продолжали танцевать, требуя аплодисментами, чтобы музыка возобновлялась, и не замечая, как всё меньше остается танцующих. В середине одного танца Леля, улыбаясь, Бобку оттолкнула (что-то угадывалось совершенно для меня нестерпимое) и быстро прошла на свое место. Они говорили, точно не видя меня, нежно и весело – всё более по-сообщнически, – и всё более обострялись во мне страх беззащитности, непрестанный озноб и боль. Я уже не мог правильно додумывать и решать – мелькающие, укороченные мысли искали нового, прежде незамеченного в обоих моих спутниках и так внезапно проявившегося, но этого нового не находили: Бобка мне казался, как всегда, глуповато ухмыляющимся и лишь более обыкновенного красным, Леля же была разгоряченной, благодарно-довольной и очаровательной за двоих. Правда, вся она оставалась как бы наглухо от меня закрытой (я для нее отсутствовал, и она ни разу ко мне не обратилась, не заметила, что я, оскорбленный, с ней не танцую, не поняла подавленного моего молчания), однако же такую Лелю, захваченную жадным, темным волнением, замкнувшуюся и от меня ушедшую, я – по отдельным, уже показывавшимся признакам – отлично помнил и только не знал жестокого, обидного их соединения. Мелькали и другие разрозненные, изуродованные мысли – почему здесь Бобка (или же вся эта мука – для меня закон, моя неизбежность, и не в Бобке причина того, что произошло) и почему ни Леля, ни всякие около нас люди не хотят понять, что мы дружелюбно пришли втроем, что они двое точно вдруг сговорились мучить меня, третьего, что так по-человечески нельзя. Я старался также раскрыть причину неожиданного предпочтения: как бы высоко я себя ни ставил, как бы ни умилялся над своей жизненной стойкостью, над своей вдохновенной и нужной работой, я всегда внутренно отмечаю чужой успех, чужую надо мной победу и не ограничиваюсь отговоркой, что я сам презрительно отказываюсь бороться или же что являюсь жертвой непонятливости и несправедливости (вечная мания побежденных), нет, я бессознательно-упорно ищу то, чем победитель взял, чего у меня не хватило, и вот, глядя на Бобку, задыхаясь от безвыходности и неразрешимости каждого кусочка времени, от незнания, как с собой поступить и куда себя девать – теперь, дома, завтра, – я все-таки натолкнулся на подобие объяснения, на нечаянный вопрос, вдруг многое подсказавший – почему Бобка и Леля оба сияющие, а мы с Зинкой тусклые, и почему из нас четырех я один словно бы не знаю своего (около Зинки) места. Но раз подобие объяснения нашлось – пускай в законе соответствия внешнего (а не душевного, как мне бы того хотелось и как было бы всего справедливее), – я невольно выскочил из тупика (хотя бы головой – продолжая сердцем горевать) и мог соблюсти какое-то печальное достоинство, не напоминать о своей уязвимости и не добиваться жалости: ведь всё равно «закона» не изменить. Впрочем соблазна с Лелей разговаривать у меня даже и не появилось – из-за глухой преграды, внезапно между нами возникшей и такой, именно, у нас понятной: в дружбе двоих людей, где один другому почему-либо бывает подчинен (сын – матери, школьник – учителю, служащий – начальнику, любящий – нелюбящей), есть опасная минута начинающегося проявления власти, перехода от дружбы к власти, минута для подчиненного оскорбительная, тяжелая, непрощаемая – мне эта грубая перемена, этот конец привычной дружеской теплоты, новый повелительный тон, навязывание нового отношения даются непомерно тяжело, возбуждают долгую злопамятность, особенно с женщинами, особенно в сочетании «любящий – нелюбящая», и такая, как у Лели, произвольная жестокая перемена меня всегда лишает и смелости, и надежды договориться. До самого конца я Лелю так и не упрекнул, весь вечер упорно промолчал и выказал некоторую безукоризненность – там, в аллее, по неловкости и ненаходчивости, здесь, в зале, от страха, от обиды, пожалуй, и от продуманной безнадежности – среди разнообразных причин, эту случайную безукоризненность вызвавших, были и слабость моя, и сила.