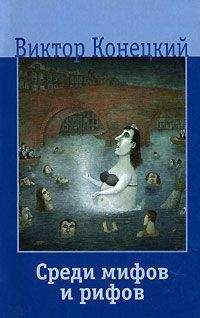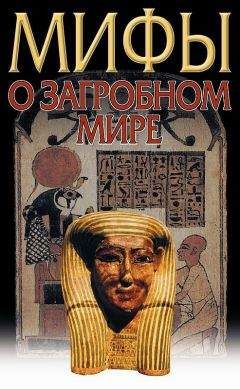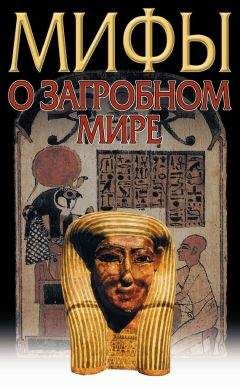Виктор Конецкий - Том 3. Морские сны
И Капитан не удивился, когда однажды ночью вошла к нему в каюту женщина. Зыбко светил огонь ночного светильника, скрипел корабль и плескала за древом борта волна, когда она, спустившись в каюту, положила руки свои ему на голову. «Идем ко мне, — сказала Капитану женщина. — Я так устала плавать! Пред закатом волна холодна!» И после того исчезла.
И опять Капитан не знал, была ли она или только привиделась, ибо они давно уже бредили женщинами. Но мрачные предчувствия с тех пор окрепли в нем.
И вскоре повернули они к родным берегам, уходя от дурного знамения.
Но не судьба была им увидеть отчизну.
Возле Рюгенских берегов от веста нашел прежестокий порыв и покрыл корабль пасмурностью. Ночью ветер скрепчал так, что мачты гнулись и фор-стеньга переломилась. А волнение сделалось подобно превеликим, белеющим в мрачности горам.
Утром закричал лотовый: «Земля вплоть пред носом!» — отчаянным криком. Тогда многие начали прощаться между собой и побежали сменить белье, ибо между простым народом царствует мнение, что, переменив перед смертью белье, он совершил свою исповедь, очистился от грехов и готов предстать чистым на Суд Божий.
Однако Капитан не переставал обо всем, что мореходством хорошим положено, пещись и велел отдавать якоря, но канаты рвались, и наконец корабль бросило валом в буруны.
Среди грохотов офицеры молились Виновнику всех чудес, Всеобщему Отцу, со страхом попинающим языком произносили: «Помилуй нас, о Вечный! Сохрани пылинку, о Всемогущий! Соблюди слабых, странствующих во тьме, бедных и немощных!» На что Капитан велел молчать им, ибо почитал себя и сотоварищей своих не рабами, а торжествующими владыками морей. И велел еще палить из пушек, чтоб предупредить береговых людей, ежели те близко окажутся.
Затем капитан, скрепив свое сердце, видя, что не остается иных к спасению корабля и людей способов, посоветовавшись с офицерами, решился, если не к лучшему, то по крайней мере к скорейшему концу, переменить безнадежное положение в ожиданиях на действо. Чего ради приказал распустить все стаксели и марсели.
Паруса наполнились, корабль двинулся и пошел вперед, стуча о дно.
За грядой рифов попали они в нечто подобное ловушке, из которой хода назад не было, а огромные скалы самого берега нависли над кораблем и были неприступны. Ветер между тем все дул отменно крепко и опять подрейфовал их. И течь в трюмы уже ничем остановить нельзя было.
Капитан послал матросов на мачты убирать парусы, но не успели убрать парусы, как опять ударились в скалы и жестоко накренились. Тогда приказал Капитан рубить на ветре ванты, чтобы обрушить мачты, и приказал то, несмотря на матросов, кои на мачтах были, ибо другого поступка придумать не мог: тяжесть матросов только прибавляла крен кораблю. Но ни у кого не хватило духа взяться в топоры против душ товарищей.
Крен увеличивался стремительно. И Капитан опять приказал:
— Рубить ванты на ветре!
И тут недоброхот — матрос из Архангельска побег к Капитану, подал ему топор и говорил:
— Только наложи руку, Капитан, первым, а я срублю по корню все, что прикажешь. Но ежели ты не наложишь руку первый, то потом отопрешься от команды своей и забьют меня!
И Капитан наложил руку на топор. Матрос после того срубил ванты в один миг, и мачты пали за борт в плесках и криках гибнущих. Но мало уже могло помочь и это действо. На сем месте Судьба изрекла: здесь предел, его же не прейдеши!
Люди полезли на бизань-мачту, которая одна скоро осталась торчать, над волнами. К большому еще несчастью, имели они с собой весьма неприятного и опасного соседа: медведь, служивший прежде им забавою, взошедши теперь на крюйс-салинг, несколько сидел смирно, но от того ли, что озяб, или с голоду, начал он опускаться и садиться несчастным на головы и прижиматься к ним. От чего они были в беспрестанном движении и, слабея, срывались в волны.
Утром рассыпало волнами всю часть корабля до нижней палубы, мачта рухнула, и страдания Капитана и всех людей его кончились.
Прольем слезы об участи несчастных и хотя воспоминанием почтим их память, которая должна быть столь же Отечеству дорога, как и память воинов, на брани убиенных.
Удержаться от удовольствия общения с настоящим русским языком не можешь. Отсюда и мои стилизации, и обильное цитирование. Как удержаться, если попали тебе на глаза такие строки:
Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине горящего лица не скрыло,
Как пламенна гора, казалось меж валов,
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя, при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.
…Карбас помора-зверобоя на волнах Белого моря. Глаза морехода на одном уровне с волной. За гребнем волн стоит ночное полярное солнце. Его низкие лучи скользят по льдам и слепят глаза кормщику. Автор был в море, работал в нем. Теперь он спокойной, крепкой рукой ведет строку. Строка величаво колышется в такт морской зыби. Север простирается далеко до края стиха. И слышно, как медленно падают капли с медлительно заносимых весел. Гребет помор. Стоит над морем солнце. Вздымаются и вздыхают на зыби льдины. От них пахнет зимней вьюгой. Здесь чистая картина — без символики. Здесь профессиональное знание жизни, и физики, и астрономии. Пишет Ломоносов. Рыбак, начинавший современный русский язык, открывший атмосферу на Венере, объяснивший природу молнии электричеством, сформулировавший закон сохранения вещества.
«…Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте… Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает».
А вот Державин:
Что ветры мне и сине море?
Что гром, и шторм, и океан?
Где ужасы и где тут горе,
Когда в руках с вином стакан?
Спасет ли нас компас, руль, снасти?
Нет! Сила в том, чтоб дух пылал.
Я пью! и не боюсь напасти,
Приди хотя девятый вал!
Приди, и волн зияй утроба!
Мне лучше пьяным утонуть,
Чем трезвым доживать до гроба
И с плачем плыть в толь дальний путь.
Здесь уже городская нервность, которая и нам хорошо знакома. Через «Достигло дневное до полночи светило…» и «Что ветры мне и сине море?..» вдруг понимаешь, как вырастало пушкинское:
Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман,
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан…
Лети, корабль, неси меня к пределам дальним
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей…
Чего не умеем мы, так это выказывать словами любовь. Разве передашь, что испытываешь, переписывая такие строки?..
Царь признал, что Пушкин есть первый ум России. Про талант царь не взял на себя смелость судить. Что опаснее для государя: ум или талант?
Заграница деликатно недоумевает по поводу нашего преклонения перед Пушкиным, ибо смертно скучает над «Онегиным». Русский же, и не читавши «Онегина», за Пушкина умрет. Для русского нет отдельно «Онегина» или «Капитанской дочки», а есть ПУШКИН во всех его грехах, шаловливости, дерзости, свете, языке, трагедии, смерти…
В США проводятся опросы «Кому вы хотели бы пожать руку?». Дело идет о живых людях. Если провести такой опрос у нас, предложив назвать и из ныне живущих, и из всех прошлых, то победит Пушкин. И не только потому, что он гениальный поэт. А потому, что он такой ЧЕЛОВЕК. Может быть, Набоков превосходно перевел «Онегина», но тут надо другое объяснять западным, рациональным мозгам.
Человека, который написал «Выстрел», уже ничто не остановит на пути к барьеру. Когда Пушкин написал «Выстрел», он подписал себе смертный приговор. Ведь он бы дрался с Дантесом еще и еще — до предела и без отступлений. Это уже ЦЕЛЬ. Свершив первый шаг, неизбежно движение к самому пределу. А смертный приговор — в любом случае. Если бы он убил Дантеса, то уже не был бы великим русским поэтом, ибо убийца в этой роли немыслим. Разве сам Пушкин простил бы себе? Остынув, придя в себя, разве он мог бы не казниться? И в какой ужас превратилась бы его жизнь… Пушкин — на вечном изгнанье за границей!
Странно, что наши предки, у которых времени было в десять раз больше нашего, говорили короче. Суворовские боевые приказы своей лаконичностью вошли в поговорки и пословицы. Петр был болезненно жаден на слова. Когда читаешь его письма, видишь человека поступков, которому противно писать лишнее слово. Правда, он никогда не был силен в грамматике, однако образность и сила его приказов отлично проникала в застойные мозги сподвижников.
А вот текст, который я знаю наизусть и трагичнее которого представить трудно. Он написан больше ста лет назад. В нем пятьдесят слов — письмо-телеграмма: