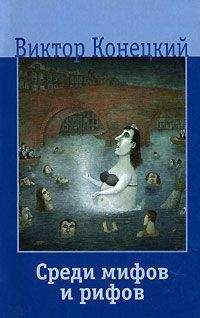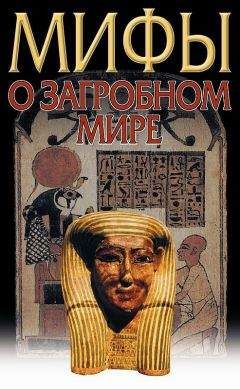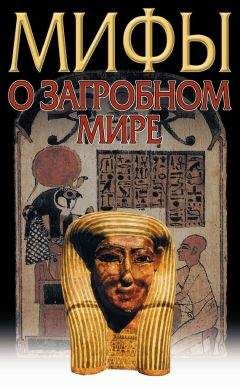Виктор Конецкий - Том 3. Морские сны
— Расчехляй вьюшки! Готовь веревки! Бросательные достали? Кранцы за борт! Отставить кранцы! Лед у нас будет вместо кранцев пока! Берегись буксира!
Смерзшиеся стальные швартовы раскручиваются с вьюшек. Сотни черных цикадных трупов вываливаются из тросов, хрустят под сапогами. Они кажутся особенно черными, негритянскими среди инея и снега.
Является Пижон. Дрожит от холода. Просовывает морду за леера, смотрит на медленно приближающийся причал. Бесстрашно-глупый хвост молотит по буксирному тросу.
— Пижон, соблюдай технику безопасности!
Легкий толчок. Приехали. Прикоснулись к родной земле, васильевским камням, граниту близкой набережной Лейтенанта Шмидта. Еще один круг замкнулся на круги своя. Родные лица на причале кажутся малознакомыми. И некоторая российская стеснительность с обеих сторон. И пограничники с автоматами уже стали к корме и носу. Однако, минуя погранзаставу, голубая четвертинка мелькнула в январском морозном туманчике.
— Все здоровы?
— Все здоровы!
— Ну, слава богу!
— Не простудись!
— Давно ждете?
— Так в диспетчерской сказали, что вы в девять швартуетесь…
— Буксиров не было…
Мы довольно долго возимся со швартовами. Лед мешает поджать корму. Колотун. Поземка крутит по необъятной Гаванской площади, по асфальту. Виден троллейбус. Симпатичный, как лошадь.
В каюте быстро переодеваюсь. Приятно надеть черную форму на чистое, беленькое белье. Приятно швырнуть ватник в угол.
Забираю папку с документами и спускаюсь в кают-компанию к таможенникам. Молодая женщина в сером костюме кажется красивой, несмотря на налет обычной для таможенников зловещей официальности.
На дальнем конце стола устроились пограничные начальники. Пахнет солдатами — сапогами, ремнями, шинелями. Мы все еще за границей, хотя и прижались к острову Василия.
— Знакомы? — спрашивает женщина в сером.
— Конечно, — говорю я, вспоминая приход из Лондона, нехватку вискозы и модельной обуви. Кажется, тогда с нами работала и эта молодая красивая.
— Скажите честно, контрабанда есть? По вашему частному мнению?
Меньше трех часов она «трясти» не будет. Знаю я уже ее тщательность в досмотрах. Догадаются родные уйти с причала, с мороза, с ветра куда-нибудь в кафе или будут толкаться три часа на снегу?
— Думаю, контрабанды нет. Двухгодовая норма — восемьдесят метров ткани. Исаакий закутать можно, — говорю я.
— А косынок много брали? — устало спрашивает красивая.
Говорить за экипаж я не собираюсь. Никто меня на это не уполномочивал.
— Чужая душа и чужая жена — потемки. Вас Валентина Николаевна зовут?
— Да.
Она погружается в бумаги. Я закрываю глаза и погружаюсь в себя. И сразу начинает мельтешить перед глазами лед. Льдины закруживаются в вальсе после удара в борт, лезут друг на дружку, крошатся, опадают… Лед, подсвеченный прожектором ледокола, черный ночной лед, синий рассветный лед, грязный, невский, мелкобитый. Малосольный финский, крепко соленый кильский, пресный кронштадтский… После ледовой проводки такое верчение и мелькание в закрытых глазах сохраняется на несколько суток. Как мотив навязчивой песенки.
…Морской лед преснее морской воды… Замерзая, вода расстается с частью соли, но никогда не забывает о потере и готова вернуть ее… «Мы пришли, ковыляя во мгле, мы к родной притащились земле, бак пробит, хвост горит…» Полная чепуха лезет в голову.
— Спать хотите?
— Есть немного. Я вам еще нужен?
— Нет пока.
Поднимаюсь в каюту и ложусь на диванчик. Дверь, как положено, оставляю открытой. Чемодан и пакеты с морскими дарами тоже во вскрытом состоянии. Паспорт моряка лежит на столе и тоже открыт. С фотографии паспорта смотрит в потолок идиотским фотографическим взглядом мой двойник. Я вдруг вспоминаю времена, когда рядом с фото, согласно международным правилам, в мореходке красовался оттиск большого пальца. Навсегда осталось прикосновение чужой руки, она твердо сжимает твою, сует твой родной палец в чернильную подушку, потом прижимает к обведенному рамкой месту в паспорте, потом палец не отмыть…
Ну скажи мне, море, навсегда я прощаюсь с тобой? Сейчас мне тошно даже подумать о тебе, море. Мне тошно думать о том, что послезавтра будет смотр, отчетные собрания, замерзшие блоки не провернутся, спасательный вельбот будет не спустить, журналы гидрометеонаблюдений окажутся заполненными не по форме, хронометры не примут в навигационную камеру на проверку, так как единственный мастер гриппует; каждый береговой человек, явившись на судно, будет корчить начальника и делать гадости, а сделать тебе гадость ему ничего не стоит… Ну, а что ждет на берегу, если посмотреть трезвыми еще пока глазами? Питерская зима, мать сразу заболеет — она всегда болеет, как только я вернусь домой. В аптеку буду ходить за лекарствами. Лекарств нужных не будет. Деньги улетучатся с эфирной скоростью…
Господи, чудится или нет?.. Едва слышное стенание цикады из-под дивана! Вот уж кому сейчас действительно тошно, так это сенегальской цикаде, ей сейчас так тошно, как будет тошно последнему человеку на замерзающей Земле через миллион лет. А мне стыдно стонать.
Просто мы все-таки здорово устали…
1975
Виктор Конецкий — живопись
Белые гвоздики и кораллы
Венера
Дыня, груши и яблоки
Дыня. Комарово
Ирисы. Дубулты
Сороки. Санаторий на Чёрной речке
Цветная капуста
Яблоневый сад. Комарово