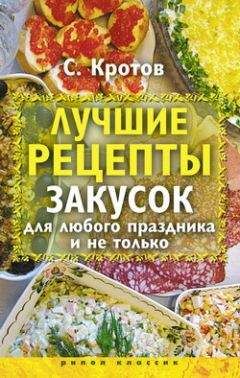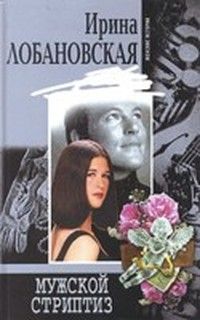Юозас Пожера - Рыбы не знают своих детей
— При таком угощенье я хоть каждый день да на край света возить могу! Пожалста!
У матери рука как-то сама собой опустилась, будто не водки ей налили, а по меньшей мере полную кружку свинца. И отец не стал пить. Он посмотрел на Острового удивленно и с укоризной, а тот смущенно пожал плечами и что-то невнятно пробурчал — видимо, сам сообразил, что пошутил не к месту. Как говорится, в доме повешенного о веревке…
— Вы уж простите, если что не так… — расслышал я.
Отец — тот сразу размяк, а мать долго не могла успокоиться. Она смягчилась лишь тогда, когда мы кончили ужинать, а отец принялся расспрашивать Острового о той деревне, куда он нас вез. Удалось разузнать не слишком много — Островой и сам толком не знал, что это за деревня. Бывать он в ней не бывал, но слышал, что живут там в достатке.
Мы ехали еще около полутора суток. Островой уже не на подводе — уступил место матери, а она все больше подсаживала на узлы меня, сама же шла рядом с отцом, стараясь попасть с ним в ногу, а я смотрел на них и радовался тому, что нет добра без худа.
* * *— Значит, еще в детстве, насколько я понимаю, ты усвоил мораль сказки о золотой рыбке? — спросил я.
Юлюс невесело улыбнулся, сделал несколько резких гребков, выравнивая ход лодки, потом сказал:
— Если бы сказки или книги вообще могли научить людей жить, на земле был бы рай… Уроки той поры, конечно, не прошли даром, но сами убеждения появились гораздо позже. Чтобы убедиться в чем-то, нужен все-таки опыт. Надо иметь, с чем сравнить. Как говорится, чтобы вкус ощутить, надо попробовать. Как-то мне довелось читать, как живут сегодня американские индейцы. Большинство прозябает в резервациях, терпит лишения, а не хочет жить как белые. Жизнь белых они называют крысиными бегами. Хорошо сказано, а? Крысиные бега, то-то!
— Н-да, неплохо, — кивнул я.
Дальше мы плыли молча. Не знаю, о чем думал Юлюс, время от времени выравнивая лодку, а на меня вдруг нахлынули безотрадные воспоминания, и до того бурно, что даже сердце заболело. Испытывая острую боль в сердце, я словно воочию видел Дору. Вот она стоит посреди комнаты, сверлит меня злобным взглядом, а голос — я так и слышал ее презрительный голос: «Скажите пожалуйста, детей захотел! Как же нам обзаводиться детьми, если сами еле сводим концы с концами? На что? На твою жалкую зарплату? На мизерные полторы сотни? Ты должен бы знать, что в наше время младенец — это роскошь». Так рассуждала моя жена. А какое-то время спустя вышел у меня дурацкий конфликт с водителем мусоровоза. Я высыпаю ведро мусора, а он давай цепляться: мол, вместе с мусором я ему бутылку кинул в машину, а стекло, видите ли, в машину кидать воспрещается. Напрасно я уверял его, что не было в моем ведре никакого стекла и ничего стеклянного — тычет мне в нос порожнюю бутылку из-под дорогого коньяка и с пеной у рта доказывает, что выкинул ее я… Мне бы уже тогда присмотреться к своей супруге, да вот… Мы беспокоились только о собственном достоинстве. Каждый воевал за свое чувство собственного достоинства, да воевал так, что не оставалось и следа этого самого достоинства. Одни руины. Пошлая история — пошлее некуда. И развязка самая банальная. Я поступил опрометчиво. Как капризная барышня. Уложил вещички и сбежал на край света. Если женщине случится сказать глупость — необязательно удирать из дома. Надо снисходительно пропустить эту глупость мимо ушей, а если уж воспринимать, то в одно ухо впустить, в другое выпустить. И тут же забыть. Ведь не на глупостях строится жизнь. Не так уж они часты, и времени на них уходит не слишком много. И от нас в конечном счете зависит, как с ними управляться. Мы должны быть снисходительны к нашим женщинам, ибо они — женщины. Не слишком убедительный аргумент, но и все теории о женской эмансипации — тоже пшик. И — слава богу. Жалкий вид имели бы мы, мужчины, и существование влачили бы самое нищенское, если бы эти теории имели под собой реальную основу. И это прекрасно, что большинство женщин продолжает оставаться женщинами. Ну а эмансипированные (или, как у нас говорят, дизель-бабы) небось и сами несчастливы, и те, кто с ними живет, тоже страдают… Надо быть старомодным и не обращать внимания на слова, слетающие с женского язычка. Поистине бесценна древняя истина: о женщина, слабость имя тебе!
— Смотри! — Юлюс тронул меня за руку.
Из тайги выбежал лось и бросился к реке. До зверя было совсем недалеко, мы отчетливо видели, как из-под копыт летела галька. В тот же миг из тайги выскочили Чак с Чингой. Собаки бежали во весь опор, казалось, они не бегут, а летят, вытянувшись всем телом, не касаясь ногами земли. Но лось успел броситься в воду, подняв целую тучу брызг, и, даже не оглянувшись, уходил все дальше, забредал все глубже, не отрывая взгляда от дальнего берега. Казалось, вот-вот и собаки поплывут следом, но те лишь прыгнули в воду и остановились — ледяная вода мигом охладила их пыл. Вытянув морды к уплывающему сохатому, Чинга и Чак чуточку полаяли, потом жалобно заскулили, точно оплакивая свою неудачу.
— Само мясо к нам идет, — сказал Юлюс, готовясь завести мотор.
— Неужели ты выстрелишь?
— А то как же…
— Ведь это браконьерство! Зверь же сейчас беспомощен…
— Такой вздор несешь, что прямо стыдно за тебя, — сердито, как никогда прежде, оборвал меня Юлюс. Он дернул за шнур, и мотор взревел на полную мощность. Не спуская глаз с плывущего зверя, Юлюс дотянулся до своего охотничьего карабина, который всегда брал с собой, ощупью нашарил в патронташе патроны, вытащил два, зарядил оружие, а потом погнал лодку на бешеной скорости наперерез животному. В несколько секунд мы его догнали, обошли, но Юлюс не спешил стрелять, зачем-то медлил, и я подумал, уж не мои ли слова на него подействовали. Лось был рядом: раскидистая корона рогов, полные ужаса большие темные глаза, клубы пара, бьющего из раздутых ноздрей, мясистые губы в жестких седоватых волосках. Сейчас можно было не только убить его из ружья, а просто перерезать ножом горло, и дело с концом, но Юлюс все еще медлил. Лишь когда лось, подгоняемый нашей лодкой, повернул обратно к берегу, я понял все: Юлюс уложит его у самого берега, чтобы меньше было возни с вытаскиванием туши. Так и случилось. Как только животное коснулось копытами дна, пригнуло голову и, выставив навстречу собакам рога, стало выходить из воды, и над поверхностью возникла вся его спина и мощная грудь, — грянул выстрел и эхом раскатился по вершинам тайги. Лось будто поскользнулся или оступился, а потом стал медленно оседать на бок, и его голова свешивалась все ниже, точно не в силах удержать тяжесть рогов, и вдруг он резко рухнул, окунулся с головой, а вода сразу окрасилась кровью…
— Хватай за рога! — точно кнутом хлестанул Юлюс.
И я послушно ухватился обеими руками за корону, приподнял безжизненную голову исполина над водой, а Юлюс вовсю терзал мотор, подгоняя лодку ближе к берегу. Однако мы сразу застряли. Я перекатился через борт лодки и шлепнулся в воду, угодив по пояс. Юлюс подогнал лодку к берегу, и мы, напрягая силы, поволокли добычу на берег. Потом пришлось взяться за ломы, и вершок за вершком мы выкатили лося на сушу. Трудились молча, не перебрасываясь и словом. Не знаю, о чем думал Юлюс, но мне было дико обидно от его резких слов, а главное — от того презрения, которое крылось за этими словами. Да что там — крылось! Юлюс не думал его скрывать, прямо в глаза бросил. Ну и подавись ты своей добычей! Я вытащил из лодки рыбу. Для начала унес мешки с солеными хариусами, поднял мох недалеко от зимовья, вырезал лопатой кое-какие углубления и сунул мешки в этот ледник из вечной мерзлоты, затем накрыл их снова землей и обложил сверху мхом. Вернулся на берег и принялся потрошить остальную рыбу, Юлюс же тем временем свежевал лося. Зверь лежал на спине, воздев к вечернему небу все четыре копыта, а отсеченная голова с венцом рогов лежала рядом и открытыми глазами глядела на свое тело, с которого человек сдирал темно-бурую шкуру. Юлюс трудился, засучив рукава, в окровавленных руках ходил нож. Свирепое, забрызганное кровью лицо да прорывавшийся сквозь стиснутые зубы невразумительный стон время от времени, — ясно было, насколько все накалено и кипит у него внутри. Поэтому я донельзя удивился, когда он вдруг сказал: «Извини, я погорячился, но и сдержаться было трудно. Само мясо идет тебе в руки, а тут поучают, городят какие-то глупости…» «Не глупости, — возразил я, — это охотничья этика. У нас, например, не принято стрелять в сидящую утку или в косулю, если она выбежит на замерзшее озеро. Надо оставить зверю какой-то шанс на спасение, а плывущего сохатого всякий дурак ухлопает». Юлюс саркастически усмехнулся: «Гуманистов из себя строите? Идете убивать, а чтобы совесть была спокойна, шанс, видите ли, даете зверю. Ты что, не видишь, какое это лицемерие? А мы проще смотрим. Мы идем убивать зверя, потому что нам надо есть. И никаких „шансов“! Чем их меньше, тем лучше. А в данном случае — мясо, можно сказать, с неба упало. И только последний дурак не воспользуется таким случаем. Кому-нибудь рассказать, как ты разглагольствуешь, — засмеют, проходу не дадут. А что обидное словцо обронил — прости. Нечаянно. Да не торчи тут мокрый весь. Сходи переоденься, принеси спирту. Не хватает еще, чтобы ты тут у меня воспаление легких схватил!» Это ворчание Юлюса меня успокоило, остатки былого возмущения испарились, а к тому же я понял, что Юлюс прав: мы и так целыми днями трудимся в поте лица, передохнуть и то некогда. А если бы еще пришлось гонять по тайге за сохатым или за оленем, сколько на это ушло бы сил и времени? Да и мясо нам давно требуется. На рыбу смотришь — с души воротит, настолько надоела! О собаках тоже подумать надо, им предстоит тяжелая работа. Все языки повысовываем, когда начнется погоня за соболем… И настроение нынче такое поганое, что, как уверяет Юлюс, добрый глоток спирта — ей-богу, не помеха. Пожалуй, и два не помешают.