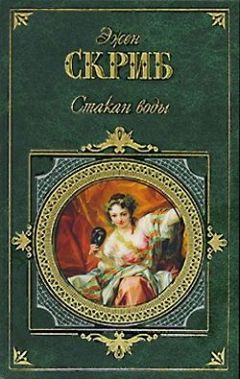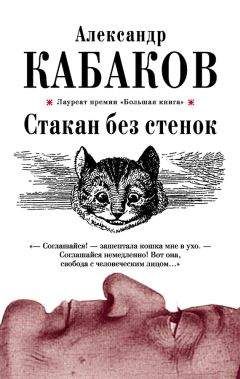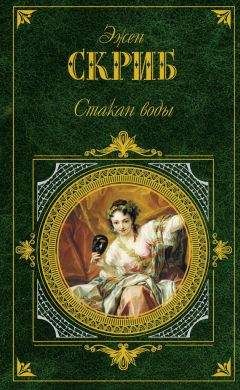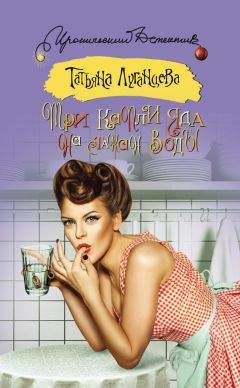Евгений Суворов - Соседи
— Дементий мало говорит, он сейчас молчком смотрит, — ответил Яков.
Бригадир понял, что имел в виду Яков, и засмеялся совсем по-мальчишески и беззлобно.
— Ну да, его участковый погонял, он теперь долго будет оглядываться! Как думаешь, — спросил Михаил, — зачем он стрелял у Лоховых?
— Это надо с Василием Емельяновичем поговорить, — уклончиво ответил Яков. — На то у него были какие-то свои причины, я откуда могу знать.
— Я смотрю, все такие дипломаты стали! — громко сказал бригадир, взглядывая на Якова. — Кого ни спросишь, никто ничего не знает!
Яков, стоявший на дороге, как будто ждал этих слов, как будто они были сигналом для чего-то: сел в ходок рядом с бригадиром и, удерживая своего Гнедка, в поводе, сказал:
— Если на Ильинке ночевал тот мужик, то, как думаешь, мог он выставить рамы?
Бригадир посмотрел на Якова неузнавающим взглядом.
— А зачем ему выставлять рамы?
Яков объяснил:
— Чуть что, можно выскочить! Люди в избу, а он — в окно и в лес!
— Ты, Яков, как профессор рассуждаешь! На кой леший ему выставлять рамы? Можешь ты мне толком объяснить?
— Я сказал: чтобы легче убежать было!
— Вы с Дементием как сговорились! За рекой кто-то ходит, за Длинным мостиком и в Листвяках — ходит! За фермой — ходит! За Песочной горой кого-то видели. На Ильинке… Вас послушать, вечером по нужде на улицу побоишься выйти!
— Один и тот же воду мутит, — нисколько не сомневаясь, сказал Яков. — Мы ему спокойно не даем сидеть ни в балагане, ни на заимке. Пасем коров то в одном, то в другом месте, — вот он и бегает взад-вперед!
Бригадир сердито вскрикивает на Воронка и резко дергает вожжи, сильно натягивает их — так, что Воронок круто выгибает шею. От того места, где бригадир с Яковом начали разговор, Воронок отошел метров на двадцать и остановился как раз у самой лужи — с травой по краям, чистой и от этого казавшейся глубокой.
Бригадир, пока они сидели в ходке с Яковом, никак не мог выбросить из головы странную мысль: может, Яков ходит около дома учителя?
Бригадир понимал, что эта мысль вздорная, но она лезла и лезла в голову, и он ничего не мог поделать с этим. Стараясь избавиться от этой мысли, он отодвинулся от Якова, как будто давал ему побольше места.
Яков сел свободнее, вобрал голову в плечи и медленно, по-ястребиному, оглянулся. Упрек бригадира, что Яков как будто в чем-то виноват, казался ему незаслуженным. Яков даже в анекдот попал из-за этого мужика! Жена, как узнала про случай в бане, на весь дом скандал закатила! Яков два часа объяснял, что не было у него никакого греха с Фениной дочкой. Жители Белой пади, особенно родственники Котовых, стали коситься на Якова… Хоть выступай на бригадном собрании и объясняй всем сразу!
От Мезенцевых Яков вышел в первом часу ночи.
Как только Петр Иванович простился с ним на террасе и исчез за дверью, Якову стало неприятно, что он допоздна засиделся в доме учителя. С крыльца он спускался медленно, как будто заносил ногу не над ступенькой, а над пропастью. И дело было не в том, что он плохо видел или совсем не видел ступенек, — на террасе горел свет, — Яков вдруг подумал, не притаился ли тот, о ком они говорили весь вечер, за террасой у камня или где-нибудь в ограде, или на огороде, и он, пока спускался по освещенным ступенькам, изо всех сил смотрел в темноту за крыльцом.
Яков знал, что об камень — валун, лежащий за террасой, убился Лаврен Чучулин, когда его пришли раскулачивать, и Якову казалось: как только он спустится с крыльца, кто-то зловещий выскочит из-за камня и нападет на него. На всякий случай он был наготове.
Петр Иванович гулко прошел по коридору, открыл и закрыл за собой двери и с кем-то заговорил — не то с Володей, не то с Александрой Васильевной.
Спустившись с крыльца, Яков остановился шагах в четырех от камня. Постоял, послушал. Усмехнувшись, что он вроде как чего-то боится, заглянул за камень — там было пусто.
В темноте он чуть не сбил со стены умывальник. Под ноги несколько раз плеснулась вода. Яков поправил умывальник, свернул за угол террасы, прошел вдоль стены дома, где из коридора чернели окна, — в них только что погас свет, — и остановился: перед ним, в полуметре, был уличный забор, слева — изгородь для загона, справа — стена дома. Пока он стоял, не зная, что сделать, — выйти на улицу по ограде или перелезть через забор, — услышал, как шелестят над ним листья высоченной черемухи, как постукивают об забор и угол дома черемуховые ветки…
Яков встал на завалинку, протянул руку вправо, влево, еще левее — везде черемуха!
Он заглянул в сад, — может, кто-то стоит под окнами! — но, кроме черных стволов и теней, ничего не увидел. В саду шуршало, вздрагивало, и как будто шептались несколько человек, поджидая, когда Яков перелезет через забор… Он смотрел в сад, пока не привык к шорохам, вздрагиваниям, и пока не отделался от ощущения, что в саду шепчутся какие-то люди.
Вернулся к крыльцу. Света на террасе уже не было.
Ограда у Мезенцевых чуть-чуть поменьше школьной, и так же, как в школе, заросла травой… Яков остановился, слушал, — ему казалось: именно в такую ночь, как сегодня, кто-то должен появиться около дома учителя.
Выйдя на улицу, он почувствовал себя свободнее и спокойнее. Нигде ни в одном доме не было света, только около магазина и еще на одном столбе горели две маленькие лампочки. В темноте дом Мезенцевых казался настолько огромным, что Якову было непонятно, как в нем живут всего три человека.
Послушав, как зашумел от ветра учительский сад, как ожили и закачались деревья, он, о чем-то сожалея, медленно пошел по улице, держась левой стороны, на которой жил Петр Иванович. Неясное сожаление Якова оформилось в четкую мысль: почему он все-таки пошел домой по деревне? Ведь он, пока сидели у Петра Ивановича, несколько раз думал, что пойдет по огороду Мезенцевых? Глядишь, встретился бы с ночным гостем… Может, он в эту минуту как раз на огороде! А если никого нет, спокойно бы пришел по задам домой.
Дорога от магазина свернула влево, к реке, и стало видно Боковскую улицу, на которой горел свет в одном-единственном доме — у Володи Петренко. «Скорее всего, кому-то мастерит новые оконные рамы к зиме», — подумал Яков. Есть еще один дом, в котором всегда поздно горит свет, — у Пашки Герасимовой. Сейчас ей за семьдесят, все давно разъехались, казалось бы, зачем ей сидеть допоздна?
Перед тем как спуститься в падинку и перейти проулок, ведущий к кузнице, Яков заподозрил что-то неладное: только что он слышал шаги в проулке, чей-то разговор, — и вдруг все смолкло! В кузнице в это время никто не работал; за кузницей — поскотина, болото… Человеку здесь ночью делать нечего… Снова послышались шаги в проулке, и Яков на слух определил — около его прясла! Кто-то засек, что Яков пошел к учителю, передал тому, кто ходит, и тот решил проучить Якова, чтобы не лез не в свое дело… А может, затеял похуже что-нибудь? Петра Ивановича боится тронуть, а Якова — можно… «Я покажу сейчас, кого можно трогать, а кого — нельзя! — обозлившись, едва не вслух сказал Яков. — Я не Петр Иванович, я сразу зашибу!» В ичигах Яков неслышно и быстро двигался вдоль своего прясла, чувствуя, как бешеной силой наливаются мускулы… С кем-то столкнулся…
— Ой, не надо, не надо, — пробормотал пьяный голос, и Яков узнал ветеринарного фельдшера.
— Что ты здесь делаешь? — спросил Яков, едва удерживаясь, чтобы не отколотить фельдшера.
— Домой иду, — совсем мирно ответил фельдшер, все еще не узнавая Якова. — Только навалился на прясло — хотел отдышаться, тут меня и схватил кто-то…
— Наваливайся на свое прясло и дыши сколько хочешь, — сказал Яков.
— До своего прясла надо дойти, — ответил фельдшер, — а я дорогу потерял… Это ты, Яков? Это же я в проулке около кузницы?! Ну, спасибо. А то я чуть в болото не зашел…
— Откуда идешь? — спросил Яков.
— С Ушканки.
— У Игната на жаренине гужевался?
— Было маленько, — ответил фельдшер, все еще побаиваясь, как бы Яков за что-нибудь не отколотил его.
Фельдшер и раньше с опаской проходил мимо Якова, а сейчас, когда стали поговаривать, что его скоро снимут с работы, он ожидал, что кто-нибудь из мужиков обязательно его отлупит, и, скорее всего, это сделает Яков.
Мужиков, в особенности Якова, фельдшер боялся больше, чем бригадира или председателя. Главного ветеринарного врача он совсем не боялся — тот со дня на день должен был уехать из колхоза. А пока что они пили и гуляли вместе, и фельдшер гордился этой дружбой больше всего на свете. Что будет потом, он не думал.
— Скоро тебе лафа отойдет, — говорил Яков, выводя фельдшера из проулка.
— Отойдет, — согласился фельдшер.
— Да ты вроде не пьяный, — сказал Яков фельдшеру. — Чего же ты шатаешься?