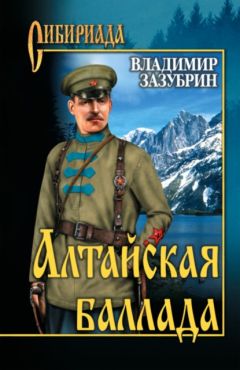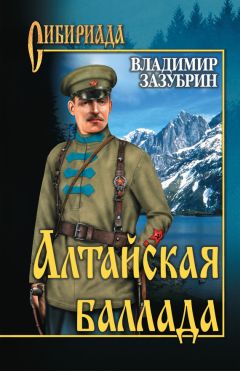Владимир Зазубрин - Два мира
– К осени Волга у нас полноводной делается. Право так, спокойно она, как дородная красавица, идет между берегов. С берегов леса да горы смотрятся в ее глубокие очи, приветливо кивают своими верхушками могучие дубы, развесистые белые березы и широкие, кряжистые, как купцы, вязы, и осина серебристая при виде ее дрожит и трепещет всеми своими листочками. Колпаков засмеялся:
– Вы чего это, капитан, в лирику пустились? Кажется, гоголевский Днепр перефразируете? – Капустин взглянул на него ласковыми, добрыми глазами.
– Разве? Э, ей-богу, это нечаянно. Это у меня от души, господа, вырвалось. Должен вам сказать, господа, что я хотя и штабс-капитан, но человек не военный и не злой я, нет. Нет у меня этого драчливого задора военного. Противна мне война и всякая военщина. Служил я раньше преподавателем естественных наук в женской гимназии и реальном, никогда я политикой не интересовался, зоология для меня была интересней всяких социологий, политических экономий и историй революционных движений. Знал я только букашек да мошек, ездил на охоту. Занимался препарированием всякой всячины. Грешил немного геологией. Есть у меня в этой области даже работа. Жил себе человек тихо, мирно. А тут вдруг этот чешский переворот, и забрали меня, голубчика, за то, что я имел несчастье в германскую войну школу прапорщиков кончить и штабс-капитаном стать. Я было это по-обывательски нейтралитетом хотел отговориться, ссылаясь, что эта война просто, мол, за власть. Пригрозили расстрелом. И вот пошел я на войну. Но даю вам честное слово, господа, что пошел я без всякой злобы на большевиков, не знал я их, да и сейчас не знаю и сейчас не понимаю, за что, собственно, мы деремся. Деремея мы под красным флагом, кричим о какой-то свободе. Красные тоже говорят, что революцию спасают. Ничего не разберешь. А как вспомнишь Волгу, свой кабинет, свои работы, так и хочется сказать: пошли вы все к черту с вашими большевиками, меньшевиками и революциями. Дела мне нет до вас. Не мешайте работать.
Капустин замолчал, стал торопливо закуривать. Ноздри его слегка раздувались, глаза были серьезны, горели огоньками возбуждения. Мотовилов мерил капитана презрительным взглядом и, обращаясь к Петину и другим своим единомышленникам, заговорил, подчеркивая и отчеканивая каждое слово;
– Вот тебе и славные N-цы, каковы, господа, в недурную компанию мы попали? Полюбуйтесь, пожалуйста, не угодно ли: вот господин Колпаков, либерал до мозга костей, имеющий намерение сменить офицерский мундир на поповскую рясу и спрятаться от страшных большевиков за юбку своей попадьи; вот штабс-капитан, друг букашек, таракашек и сам божий бычок, до сего времени не знающий, за что он воюет, и в простоте душевной думающий, что с красными можно столковаться о мире.
Капустин побледнел, выронил папиросу. Волнуясь и задыхаясь, он остановил Мотовилова:
– Послушайте, подпоручик, какое вы имеете право так издеваться над людьми, чем вы, собственно, лучше нас, в чем ваше преимущество? Кто это вам позволил обливать всех презрением?
Мотовилов нагло улыбнулся.
– Кто позволил? Вот это мило. Презирать вас я имею полное право, ибо я сознательно и убежденно веду борьбу с красными, борюсь с ними, как с разрушителями государства, как с продавцами России. Я иду на смертный бой за воссоздание Великой Единой России во главе с самодержавным монархом. – Мотовилов закурил. – Да, с самодержавным непременно, и таким, какого еще не было раньше. Я верю, что только он воссоздаст армию и поставит офицерство на должную высоту. Вот что дает мне право презирать вас, шпаков, позволяет мне плевать в ваши заячьи душонки. Эх вы, крохоборы, дальше своего носа ничего не видящие.
Офицер встал, глаза его сверкали гневом, грудь поднималась порывисто и часто, он сердито бросил окурок, заходил по комнате.
– Правильно, Мотовилов, правильно, крой полтинников, – загудели его единомышленники.
Что-то тяжелое и напряженное повисло в комнате. Недавние собутыльники разделились на два враждебных лагеря. Офицеры, ранее, до отхода в резерв, связанные общими боевыми задачами, думавшие только об отдыхе и еде, еще ладили между собой. В училище тоже все были спаяны железной дисциплиной, о политике почти не говорили, побаивались друг друга. Теперь же каждый почувствовал себя более или менее самостоятельно, к тому же несколько рюмок вина развязали языки. Барановский в училище молчал и считался весьма исполнительным и надежным юнкером. В полку он тоже себя ничем не проявлял, был как все – офицер как офицер. Но, будучи человеком не глупым и чутким, он переживал в душе за последнее время сильную ломку. Судя по докладу пленного командира бригады, по рассказам местных жителей, по литературе, оставляемой красными в деревнях, у него складывалось весьма хорошее мнение о Советской России. В его воображении не раз вставал образ титана пролетария, рвущего свои оковы в неудержимом, всесокрушающем порыве к освобождению, вышедшего на защиту своих прав с винтовкой и молотом в руках. Не столько умом, ясно и определенно, сколько в душе, смутно, он начинал чувствовать, что правда на стороне красных. Что никто другой, а именно они борются за освобождение всего человечества от ига войн, рабства и насилия. С каждым днем приглядываясь к тому, как ведут себя белые на фронте, судя об их поведении в тылу по рассказам крестьян, он приходил к убеждению, что их дело, дело армии Колчака, – неправое дело. Ему начинало казаться, что Колчак только пока лицемерно лжет, говоря, что ведет борьбу за власть народа, за Учредительное Собрание, им же разогнанное в Уфе. Чем дольше Барановский служил в белой армии, тем больше убеждался, что белые просто-напросто хотят залить кровью, закидать трупами ту огромную трещину, которая появилась на жирном чреве золотого истукана – идола старого, подлого мира, мира лжи, насилий и угнетения. Мотовилов был неприятно удивлен, когда Барановский, всегда такой вежливый и сговорчивый, подошел к нему и, смело смотря в глаза, с нервной дрожью в голосе спросил:
– Ну, скажи, Борис, скажи ты, считающий себя человеком, а не букашкой, думающий, что у тебя большая человеческая, а не звериная душонка, где правда твоей жизни? На что опираешься ты, когда говоришь с таким презрением и злобой о красных или о людях, не желающих ввязываться в гражданскую войну? Скажи?
– И ты, Брут?
– Ну, Борис, я никогда не считал тебя своим другом.
– Ах так. Что же, я скажу, пожалуй.
Мотовилов стал медленно закуривать, стараясь выиграть время для того, чтобы обдумать лучше ответ.
– Так вот, видишь ли, по моему мнению, в жизни торжествует только сила. Не верю я и не интересуюсь никакими правдами в жизни. По-моему, где сила, там и всякая ваша правда. Торжествует всегда только сильный. Это основной закон жизни. Ну вот, голубчик, я и думаю, что сила-то, а значит, говоря по-вашему, и правда-то на нашей стороне, ибо нас поддерживает вся культурная Европа. К нашим услугам все усовершенствования и открытия науки, с нами лучшая европейская интеллигенция, у нас огромные запасы необходимых продуктов, а главное, хлеба. Армия наша дисциплинирована, вооружена до зубов. Наши снаряды не советским чета. Наши солдаты идут в бой, зная, что жить с красными нельзя. Конечно, эту дрянь, сибиряков, я не считаю, – оговорился офицер. – А там банда, а не армия, которую гонит в бой кучка комиссаров-проходимцев. А вооружение их, а обмундирование? А тыл, где люди пухнут с голоду? Э, да что говорить. Это всем известно. Кроме того, я думаю, что русский народ монархичен по своей натуре. Без идола ему не обойтись. Ему обязательно надо кому-нибудь поклоняться и чтобы его кто-нибудь порол нагайкой.
Барановский громко засмеялся.
– Ну, Боря, хоть и большая у тебя душа, как ты думаешь, а умишко-то куриный. Сказать, что русскому народу, тому самому народу, который вот уже два года ведет жестокую борьбу со всем миром, который разбивает одного генерала за другим, сбрасывает в море разных союзников, сказать, что этому народу нужны царь и нагайка, по меньшей мере смешно. Сказать, что Красная Армия банда – клевета. И ты сам знаешь, что Красная Армия теперь имеет дисциплину лучше нашей, что она организована не хуже, может быть, даже лучше любой европейской армии. Что она сильна, это ты испытал на своей шее: слава богу, с Волги-то она нас в Сибирь загнала. Нет, брат, там не кучка комиссаров-проходимцев, а настоящие вожди. У нас посмотришь, кто во главе дел, – старые чинуши, отжившие свой век. Ни мысли у них яркой и живой, ни творческой инициативы. Жизнь бежит вперед, а они пытаются загнать ее в старые рамки. Она не слушается, хлещет половодьем через берега и плотины, а старцы дрожат и бессильно разводят руками. Совсем не то там. Там, брат, широта размаха, планы грандиозные и дела великие. Ты говоришь, что с нами европейская интеллигенция, т. е. опять-таки люди, насквозь проникнутные рутинерством, люди, которые могут строить новое только на старый лад. А у красных теперь весь богатый запас революционной и творческой энергии народа получил свободный выход и приложение. Да у них и интеллигенция есть, только своя. Нет, брат, сила на их стороне, и посмотришь, разобьют они нас.