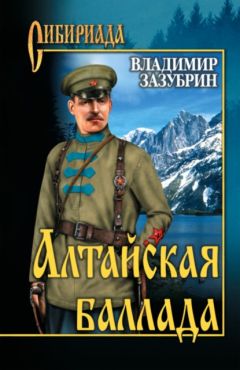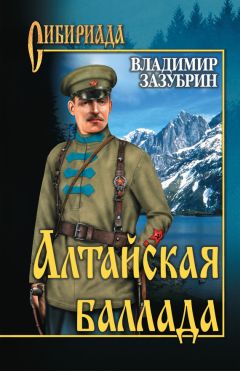Владимир Зазубрин - Два мира
– Где? Когда? Кто? Как?
– Говорю тебе, вчера перебежал один красноармеец к N-цам, ну и сказал им, что Тухачевский в Михайловке. N-цы, как звери, бросились в наступление, совместно с казачьим полком прорвали в два счета фронт, отрезали с тылу Михайловку, а Тухачевский у них под носом на автомобиле проскочил.
– Фу, черт, – разочарованно вздохнул Мотовилов. – Так, его, значит, не захватили?
– Конечно, нет.
– Ну, это, брат, неинтересно.
– Тебе, может быть, и неинтересно, а N-цы и сейчас не могут успокоиться, жалеют, что не пришлось им с самого Тухачевского обмундирование содрать.
Колпаков пускал колечки дыма.
– Забавная эта традиция у нас в армии, господа: как попался красный в плен – крышка, до ниточки обснимают всего. Оставят буквально почти в чем мать родила. Зимой ли, летом – все равно, тут хоть мороз-размороз будь. Точно по принципу Крылова: с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой.
Мотовилов возразил:
– Это не забавно, а целесообразно. Обмундирования мало, значит, его нужно отнять у врага.
Пришел новый знакомый, однополчанин штабс-капитан Капустин, очень веселый человек, имевший недурной тенорок и умевший порядочно играть на гитаре. Пришел еще кое-кто из молодежи, не было только подпоручика Иванова: ему пуля раздробила ногу, и он уехал в лазарет. Перед обедом разговорились о положении дел на фронте. Кто-то сообщил, что у Деникина все обстоит как нельзя лучше, что он уже в трехстах верстах от Москвы. Мотовилов говорил:
– Хорошо бы, господа, попасть к Деникину. У него ведь армия не нашей чета, добровольческая. Вот там бы можно было повоевать.
Барановский с обедом отличился. Меню было очень разнообразное. Прежде всего с графином хорошей водки была подана холодная закуска – поросенок со сметаной и хреном, студень и соленые грибы. Когда гости пропустили по «маленькой», был подан пирог с рисом и курицей. После пирога появился настоящий малороссийский борщ. Борщ сменили жареные тетерева, утки, заяц и жирный домашний гусь. После жаркого был подан пудинг и кофе. Все было приготовлено, как в первоклассном ресторане. Офицеры после однообразных щей и каши, которыми потчевали их ежедневно денщики, были в восторге от такого разнообразия блюд и хвалили наперебой искусство Барановского. Барановский, как настоящий именинник, был героем дня. Отпив с полстакана кофе, штабс-капитан Капустин сделал дурашливо-плачущее лицо, взял гитару и, слегка тренькая на ней, тонким, жалобным тенорком запел:
Эх, заварили чехи кашу,
Провоевали Волгу нашу.
Офицеры, возбужденные несколькими рюмками водки, затянули припев:
Ах, шарабан мой,
Щарабан,
Денег не будет,
Тебя продам.
Барановский замахал руками.
– Да бросьте вы, господа, этот «Шарабан». Только и знают, что орут эту белиберду.
Русски с русскими воюют,
А чехи сахаром торгуют.
Не унимался Капустин:
Ах, шарабан мой,
Шарабан,
А я, мальчишка,
Вечно пьян.
– Антон Павлович, – с укором посмотрел на него Барановский.
– Ну, ладно, ладно, не буду. Коли хозяин не велит, так быть по сему. Не любите, значит, вы белогвардейское творчество. «Шарабан»-то ведь во времена белогвардейщины на Волге создался.
Капустин тряхнул кудрями, закинул голову назад, лихо пробежал рукой по струнам, крикнул:
– Не хотите белогвардейскую, так вот вам пермскую, народную:
Д'наша горкя,
Д'ваша горкя,
Только разница одна.
Кто мою Матаню тронет,
Тот отведает ножа.
– У-у-ух-ты!
Все засмеялись. Капустин замолчал и с серьезным видом стал допивать стакан. Колпаков развалился на стуле и, сладко затягиваясь папиросой, стал вслух вспоминать то время, когда он беззаботным ветрогоном, студентом юридического факультета, носился по Казани.
– Хорошее это время было, господа, когда я учился в университете. Учиться я начал осенью шестнадцатого, а в марте семнадцатого вы ведь знаете, какую радость пришлось пережить.
Колпаков был кадет и немного либеральничал. Мотовилов, Петин и другие офицеры, настроенные монархически, засмеялись.
– Радость, действительно. Нечего сказать. Балаган такой на всю Россию господа социалисты подняли, такой порядок навели, что хоть святых выноси.
– Ну, господа, не будем спорить. Вы – монархисты, а я ка-де, и в этом мы никогда не сойдемся.
– Как вы сказали? Ка-ве-де? – пошутил Капустин.
– Ка-де, – серьезно повторил Колпаков. – Да, я ка-де, вы монархисты, и все мы делаем одно общее дело, дело освобождения России от ига большевизма. Вот та платформа, на которой мы пока сходимся.
– А я вот только одну партию и признаю – ка-ве-де, – продолжал смеяться штабс-капитан.
Колпаков пристально посмотрел на Капустина.
– Так вы, капитан, сами, значит, живете так – куда ветер дует?
– Именно. Именно так. Как это вы угадали? – закривлялся офицер.
Колпаков серьезно смотрел ему в глаза. Капустин схватил гитару:
На Кавказе между гор
Есть одна долина.
Что ты смотришь на меня?
Я не мандолина.
Колпаков расхохотался:
– С вами не сговоришь.
– Нет, господа, а все-таки, становясь на объективную точку зрения… – начал он опять.
– Брось ты свои умствования революционные, – перебил его Петин. – Начнет это бесконечное «с объективной точки зрения», субъективно смотря на дело, анализируя весь пройденный нами путь и синтезируя все сделанные нами пакости, и пойдет, и пойдет. Давайте лучше споем. Правда, капитан?
– Я всегда готов, – отозвался Капустин. Прапорщик Гвоздь предложил спеть малороссийскую.
Все согласились. Гвоздь начал:
Гей вы, хлопцы, добри молодци,
Чого смутни, не весели?
Хиба в шинкарки мало горилки,
Пива и меду не стало?
Офицеры дружно поддержали:
Повни чары всим налывайте,
Щоб через винця лылося!
Щоб наша доля нас не цуралась,
Щоб лучче в свити жилося!
Песня понравилась всем, и все пели охотно. Каждый в глубине души чувствовал, что доля его незавидная, что всех их жизнь порядочно пощипала. Долго в избе лились грустные звуки мотива и, мягко вторя им, звенела гитара. Хозяйка стояла в дверях передней, не спускала с Барановского глаз, часто смахивала с своих длинных ресниц блестящие слезинки. Фомушка подал на стол кипящий самовар, поставил банку варенья, положил несколько плиток шоколада и коробку карамели.
– Откуда у тебя, Ваня, такое богатство? – спросил Колпаков.
– Как откуда? Да сегодня же подарки получили. Омские дамы послали сладости, а Колчак по две смены белья. Начхоз когда выдавал, то говорил, что Колчак это лично от себя офицерам шлет.
– Ну, наш батальон не получал еще, значит, – сообразил офицер.
Офицеры, смеясь, стали садиться к столу.
– Я хочу, господа, все-таки сказать несколько слов о том, что мирная жизнь лучше, интересней боевой.
Все молчали, занятые чаепитием. Видя, что никто не возражает, Колпаков продолжал:
– Ну что, сидел бы вот я теперь дома с хорошей книгой или свежей газетой, шипел бы около меня самоварчик, и в ус бы я не дул. Пожалуй, ничего бы и жениться. Жил бы себе мирно, тихо, не признавал бы никаких командиров, никаких приказов по полку. Знал бы я, что я Михаил Венедиктович Колпаков, и баста. А то вот теперь выпекли из меня подпоручика, дали роту и лишили вольной волюшки.
Мотовилов потянулся за карамелькой, презрительно бросил:
– Эх, Михаил, попом бы тебе быть, а не офицером.
Колпаков не обиделся.
– Пожалуй, я бы не прочь, хоть сейчас, попом, дьяконом, чертом, кем угодно готов быть, только не офицером. Ох, тяжелы эти погоны золотые. Да и что они дают в конце концов? Вот ты офицер, командир роты, в снег, в грязь, в непогодь, в дождь шлепаешь по лужам с ротой. Валяешься в мокрой грязи, зарываешься, как крот, в землю, подставляешь свою башку каждый день под все виды огня и каждый день имеешь девяносто девять и девять сотых за то, что тебя ухлопают или изуродуют. А главное, будь всегда на высоте своего положения, будь каким-то сверхчеловеком: ты и струсить не моги, ты устать не смей и ошибиться тебе нельзя, потому что солдаты на тебя смотрят, с тебя пример берут, а начальство тебя дерет как сидорову козу опять-таки потому, что ты офицер. Завидная доля, нечего сказать!
Многие в душе соглашались с Колпаковым, понимали его. Многих офицеров тяготила та страшная служебная зависимость младшего от старшего, та сугубая субординация, с которой приходилось сталкиваться каждый день, в условиях которой нужно было жить. К тому же походная и боевая жизнь с ее длительными переходами пешком, по грязи или снегу, днем и ночью, без пищи, без воды, без смены белья не привлекала никого. Многие с удовольствием мечтали о теплой, светлой комнате, о стакане чая в кругу родной семьи, о чистом белье, о спокойном, нормальном сне. Штабс-капитан Капустин задумчиво помешивал ложечкой в стакане и говорил о том, как хорошо теперь у них на Волге: