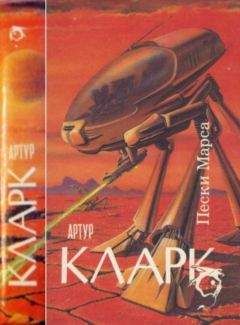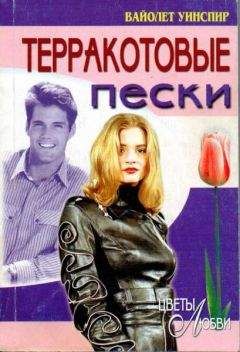Анатолий Ткаченко - В поисках синекуры
Много ли света, тепла принесла она зрителям, искусству, сперва играя на сцене, затем администрируя, он не знал: не видел ее ни в одной пьесе, не ходил в ее театр (как ни принуждала его порой Евгения Николаевна), но определенно помнил, знал все долгие годы: это она, Маржалена, уговорила, заставила юную сестрицу Женю сделать аборт. И акушерку нашла, и задаток денежный сунула без ведома своей и его матери, а отцов у них не было, оба погибли на гражданской. Он прямо-таки до слез живо вообразил тогдашнюю Маржалену — с короткой стрижкой, в узкой длинной юбке, тесной жакетке; взгляд поверху и вдаль, рукопожатие жесткое, сугубо товарищеское, цель — ясна и тверда на всю будущую жизнь. «Какой ребенок? — прямо и четко сказала она испуганной Жене. — Каши, пеленки... Ты станешь домохозяйкой, прислугой мужу, семье, таких бросают. И правильно делают. Они тащат общество в темноту прошлого. Всему свое время. Стань сначала образованной равноправной личностью». Все стали личностями какими-никакими, в меру сил и способностей исполнили свой долг, только жизни свои прожили очень по-разному. Евгения Николаевна и он, ее бывший муж, остались одинокими. А волевая Маржалена Свет увидала не только внуков, но и правнуков, неизменно награждая «фотомордашками» (по ее выражению) младшую сестрицу. Теперь вот принесла свое третье чадо напористая, громкоголосая Кити, будто исполняя завет матери — напоминать Евгении Николаевне об ее бездетности.
Так — может, не совсем справедливо — думалось ему сейчас, и воздушноволосый ребенок смотрел на него, ему казалось, нагловато уверенными, непроглядно темными глазами своей бабушки-администраторши. Он отвернулся, вновь глянул в сторону телевизора, стыдя себя за глупую неприязнь к ребенку, но сердце уже горячо зачастило — оттого, что ему припомнился трехмесячной давности разговор с Евгенией Николаевной, когда она почти прямо вымолвила: мол, и ты виноват в том злополучном моем поступке... Он промолчал тогда, теперь же решил как можно осторожнее спросить Евгению Николаевну, неужели она серьезно так думает. Он начал неспешно, издалека:
— Милый ребенок. Как нарекла его Кити?
— Джоником.
— О!.. И похож на Маржалену, то есть Марию Николаевну. Отдаленно, правда. Характерная женщина была. Нам не хватало ее решительности. Слушались. Особенно вы...
— Да, — подтвердила, чуть настораживаясь и ставя чашку на блюдце, Евгения Николаевна. — Сестра, старшая.
— А моя мама говорила: не подчиняйтесь этой командирке.
— Ваша мама была бухгалтершей в конторе Палашевского рынка.
— Ну и ваша, извините, не в Совнаркоме работала... Только я не о том... Вы как-то намекнули, будто я тоже... Тогда как совет, вернее, приказ Маржалены вы решили беспрекословно исполнить. А я, помнится, просил вас не рисковать...
— Он просил... Изумительно! — тихо и удивленно рассмеялась Евгения Николаевна, словно возвращая себе наивно утерянное, более дорогое ее душе прежнее ироническое настроение. — И кто это говорит? Муж тогдашний! Да вы же боксом занимались, вы гирю двухпудовую по сорок раз выжимали, вы готовились к грядущим боям с фашизмом и мировой буржуазией... Вы меня на руках на третий этаж бегом заносили. А тут — он просил! Разве об этом просят? Это запрещают молоденькой глупой жене, говорят ей: убьешь ребенка — я убью тебя! А вам свободы хотелось, как и мне, квартиры вместо коммуналки, диссертации, оклада вместо скудной получки... — Евгения Николаевна передохнула, явно желая несколько успокоиться, но сразу же вскинула голову, сощурила гневно блеснувшие глаза и договорила то, что было давно, наверное, обдумано и рвалось из нее: — Вы волю вырабатывали и остались безвольным. Моя сестра видела вас, понимала. Когда я заспорила с ней, она прямо сказала: «Разве он муж? Он же боксер и диссертантщик. Ему удар левой в челюсть важнее жены, ребенка, родных и близких. И остерегает он тебя — чтобы чистеньким остаться: как же, борец за мировую справедливость!» Хоть теперь-то вы можете что-нибудь понять, пенсионер Степан Корнеевич?
«Спокойно, спокойно... — наговаривал он себе, пригнув голову, со скрипом натирая сухие ладони, ярко пылая, как ему казалось, ушами от подступившей к голове возмущенной волнением крови. — Она женщина, она слабее. Она просто нервнобольная... Сейчас выговорится, я утихомирю ее... Ну, наконец, скажу: да, виноват, молод был, глуп... И давай забудем все, простим прегрешения друг другу, нельзя же так... Уж лучше вовсе не встречаться, а то ведь и инфаркт кого-нибудь свалит. Главное — спокойно слушать и молчать».
— Молчите? — спросила Евгения Николаевна, поднимаясь и отчужденно накидывая на плечи пуховую шаль. — Так я вам еще скажу: вы не любили Маржалену, она вас тоже. Потому что оба играли роли — в жизни. Она сыграла грубо, но с выгодой для себя. Вы — просто бездарно.
Он поднял ладони, задвигал ими перед своим лицом, часто шепча:
— Умоляю вас, остановитесь... Не надо... Пожалейте себя и меня...
— Все игра! — сказала она с резким смешком. — Признаюсь вам наконец: я рада, что не имею от вас детей. Только не падайте в обморок, у вас это убедительно получается, но я уже не поверю...
— Как вы смеете! — надрывно выкрикнул он, одолев минутный приступ удушья. — Это бессердечно, дико и... извините, отвратительно... Я шел к вам отдохнуть, вас утешить... Сию минуту, немедленно ухожу! — Он идет, шаркая тапочками без пяток, в прихожую, медленно натягивает теплые ботинки, затем надевает пальто, берет в руки шапку, все наговаривая, теперь уже больше для себя: — Не понимаю, ничего не понимаю... Хочу по-хорошему, стараюсь, стремлюсь... Одиноки ведь, кому нужны?.. И каждый раз оскорбления. Зачем прожили столько лет, зачем разошлись, зачем встречаемся?..
Он отщелкивает замок на двери, поворачивается к Евгении Николаевне, чтобы откланяться, сказать ей хотя бы «до свидания», но видит ее в свете хрустальной люстры напряженно прямую, глухо укутанную шалью, с чуть вскинутой головой, жестко сжатыми губами и выговаривает одно, посильное для него, уместное сейчас слово:
— Прощайте.
Уже на лестничной площадке в его затылок, ссутулившуюся спину — он почти физически ощущает это — бьются отчетливые звуки ее хрипловатого голоса:
— Прошу не беспокоить меня своими посещениями, товарищ Михеев!
Минуты две она стоит неподвижно, потом, словно очнувшись, выключает свет и бросается к окну; жужжат внизу дверцы лифта, глухо вздыхает тяжелая дверь подъезда — и она видит сквозь снежную замуть, в тусклом свете заиндевелых фонарей, как вдоль решетки газона, покачиваясь, оступаясь на снежных буграх, идет, держа в руке шапку, Степан Корнеевич, которого она только что назвала товарищем Михеевым. Он пересекает двор, выходит на утоптанный уличный тротуар, поворачивает в сторону метро «Каширская», а она все смотрит, до головной боли напрягая зрение, боясь потерять его сгорбленную фигурку в потоке прохожих, и наконец облегченно выпрямляется: перед тем как затеряться среди дымно-вьюжной вечерней уличной суеты, он, точно услышав ее повеление, надевает шапку.
Она включает свет и тут же выключает опять: хрустальная, в четыре лампы, люстра как бы обожгла комнату стеклянно пронзительным, льдисто-холодным сиянием. Засветила белый торшер у дивана, служившего ей кроватью, присела, глянула вверх, на люстру «Алмаз». К чему эта театральная (да, почти театральная!) вещь в ее крохотной комнате? Зачем просила соседку из универсама «достать», «устроить», «организовать», обещая всегда принимать, любить ее наглую, пакостную собачонку? И обои импортные, моющиеся наклеила, и телевизор громадный цветной (чтоб от зависти ахнули!) приобрела, и вазу хрустальную за сто семьдесят рублей, и... А он, Степан Корнеевич, ничего этого не заметил.
Слеп? Невнимателен? Безразличен?
К каждому его посещению она старается что-нибудь купить, переставить, переделать в своей квартире, чтобы, войдя, он удивленно воскликнул: «Богато живете, Евгения Николаевна!» Или: «Вижу, вы ничуть не скучаете в своем уютном гнездышке! Завидую». Ведь его однокомнатная наверняка пуста, неприбрана, пропахла немытой посудой и расхожим одеколоном «Шипр». Она не пожелала даже глянуть на житье-бытье бывшего мужа, а он просит, уговаривает приехать к нему. Почему отказывается? Не боится ли разжалобиться, посочувствовать одиночеству Степана Корнеевича — все-таки не чужого ей человека?
Пожалуй, именно это пугает Евгению Николаевну. Она почти знает: это! И с тем бо́льшим упрямством оберегает себя от нежных слов, задушевных бесед. Она не хочет сближения. Пока не хочет. Почему? Степан Михеев виноват перед нею. В чем? Словами выразить своей обиды она не может. Чувствует: виноват! За всю ее жизнь, которая могла быть иной. В нем чего-то не хватило для нее — более твердого характера, необычности, может, риска... Он мягок, внимателен, ласков... Он не был хозяином, главой и хотя бы чуть-чуть повелителем. Он соглашался. Он дал ей столько воли, что она... да, других слов не подберешь — задохнулась в ней, и теперь приезжает угождать.