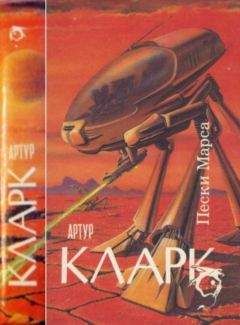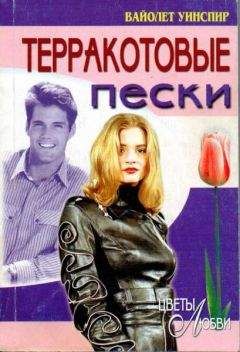Анатолий Ткаченко - В поисках синекуры
Но она стала замечать, что он по ночам храпит, утром не делает зарядки, до половины дня ходит или валяется на диване в мятом халате, забывает бриться; и ест много (все потирает мягкими ладошками, наговаривая: «А не употребить ли нам чего-нибудь деликатесного, подружка дней моих суровых?»). Свел знакомства в гастрономах — цветочки, флакончики пробных духов, — что и вовсе, по ее убеждению, недостойно, постыдно для интеллигентного человека. Он отшучивался поначалу, с хохотком выпячивая волосатый тугой живот, ибо благодушно, день ото дня полнел, а затем, после резких ее упреков («кандидат в Обломовы», «пенсионер-скамеечник»), стал замечать: уж очень упрямо, даже фанатично она бережет себя — ни грамма лишней еды, ни минуты лишнего сна; записалась в группу здоровья, по субботам — бассейн «Москва», по воскресеньям — кино, театр, раз в месяц — загородный туристский поход; цветы свежие на столе, парикмахерская через день... И наконец он прозрел, как ему показалось: ведь она хочет понравиться кому-то или уже встречается с кем-то!
Он так и сказал ей, не умея что-либо утаивать от жены. Она рассмеялась и тут же всплакнула. Впервые за все их супружество. Проговорила потом: «Дети мои во мне моей жизнью живут».
Детей у них не было.
Еще в предвоенное, теперь смутно отдаленное время, когда они только-только начинали жить, ютясь в коммунальной комнатенке здесь же, у Никитских ворот, она, тогдашняя студентка Женя, сделала строго запрещенный в те годы аборт. Сделала тайно. И неудачно.
Они поняли это позже, уже захотев ребенка. Лечение не помогло, и до него ли было: дела институтские, общественные, диссертации, студенты, аспиранты, загранпоездки — начисто вытеснили мысли о личном семейном устройстве.
Они не жили в своей квартире, как бы временно обитали. И вдруг остались наедине в двух невеселых пустоватых комнатах, потому что всегда презирали приобретательство, мещанский уют. Решили осовремениться. Оклеили квартиру дорогими обоями, заставили импортной мебелью, накупили эстампов, инкрустаций, ваз, керамики. Но комнаты, став тесными, не сделались веселыми — пропахли музейностью.
Они не умели обжить их. Они не знали, как жить в одиночестве. Их некому было примирить, соединить.
И они разошлись.
А разойдясь, стали встречаться, желая хоть как-то понять, осмыслить прожитые, ушедшие в небытие годы.
— Я вам напомню, — прервала тягостное молчание Евгения Николаевна, покашливая в кулачок с напухшими синими жилками, глядя мимо Степана Корнеевича. — В прошлый раз вы начали жаловаться, будто вас, заслуженного фронтовика, обходят вниманием, медаль какую-то забыли выдать, путевку в Ессентуки задержали, еще что-то... А я сказала: вы же не настоящий фронтовик, интендантом три года воевали, и медалей у вас штук десять, только все за взятие городов. Есть и вовсе чудная, такой город я едва на карте нашла... Орденок — один. Освобождали, брали, вроде бы не воюя, вместе с обозом... Вы обиделись.
— И опять обижусь, — негромко вымолвил он, уже вполне владея своим добрым настроением, за минуты молчания уговорив себя не выказывать даже легкого волнения. — Вы же знаете: солдат — там, куда его пошлют. У меня экономическое образование, без надежных тылов армии гибнут... Тыловики кровавым потом обливались, и пули нас находили. Я и сказал тогда: а теперь мы — вполцены вроде. Больше шутя сказал.
— А зачем свой офицерский аттестат припомнили? Да еще намекнули с улыбочкой: мол, жила я на ваш пайковый аттестат и денежки профессора Болдина.
— Это после... это когда вы меня оскорбили.
— Правдой не оскорбляют.
— Грубо как-то вы...
— А вы? Болдина прилепили. По какому праву?
— Слухи ходили...
— Шлюхи вокруг вас действительно всегда ходили, Степан Корнеевич. Лаборантки, аспирантки в ваш баритон, тонкие манеры влюблялись. Одну, Ипатьеву, встречаю недавно: как поживает милый Степан Корнеевич? Позвоните ему, говорю.
Он вскочил, тут же почувствовав боль в пояснице от слишком резкого движения, заложил руки за спину и, осторожно похаживая около стола, умоляюще проговорил:
— Грубо же, Евгения Николаевна, грубо, извините.
— Изумительно! Он не пощадил памяти уважаемого профессора, а я, выходит, груба.
— Но вы же, вы упали на гроб и так некрасиво, обморочно рыдали!
— Болдин — мой учитель!
— А диссертацию делал вам — я!
— А тему кто дал? А поддержал кто? И не врите, что делали. Кандидатскую — помогали, да. Докторскую — сама, и еще вашу продвигала.
— На фронте отстал...
— Вот и рассчитались, товарищ фронтовик.
Теперь она тоже ходила у своей стороны стола, переплетя руки на груди, колко поглядывая на Степана Корнеевича, одышливо-хрипло, с мгновенно возникающими скупыми улыбочками выговаривая, слоено швыряя в него, заранее конечно же приготовленные, слова.
Он заставил себя замолчать: «Нельзя, невыносимо, снова рассоримся! Пусть выговорится, пусть успокоится. Можно извиниться, попросить примирения, только удержаться от сварливой старческой перебранки. Этому не будет конца!» Он ходил, свесив голову, а она неумолчно говорила. Припомнила ему тридцатилетней давности командировку с аспиранткой Ипатьевой в Свердловск (ну ведь, ей-богу же, поездка была исключительно деловая!); духи «Шанель», подаренные секретарше директора института («А своей жене дороже десятирублевых не дарил»); какой-то пикник в Серебряном бору, где он, нахлеставшись коньяку, выкрикивал тосты за женщин-матерей, всякий раз дурацки прибавлял, что бабам надо рожать, а не диссертации защищать, — явно упрекал ее в бездетности; не пустил в круиз вокруг Европы, отказался лечить гипнозом свой патологический храп, занашивал носки до дыр... и еще, еще что-то совсем уж мелкое, но больно обидное, отчего он просто закрыл ладонями уши и ходил, встряхивая головой, как когда-то при контузии.
Наконец он подошел к ней вплотную, выкрикнул:
— Прекрати болтовню! — и, вяло обойдя стол, упал на свой стул, тут же стиснув пальцами горло.
Какое-то время он будто дремал в полной душевной расслабленности, забыв о себе, своем внезапном, перехватившем дыхание волнении, потом ощутил на губах запах корвалола, покорно выпил два теплых глотка из мензурки, взял в рот таблетку валидола и только после всего этого открыл глаза: перед ним стояла на коленях Евгения Николаевна, отирала влажным прохладным полотенцем его лицо, и подсиненные веки ее смигивали блесткие росинки слез. Он прижал руку Евгении Николаевны к своим онемелым, холодным губам, вымолвил шепотом:
— Прости, не сдержался.
Она тоже извинялась, укладывая его на диван, сидя затем рядом, как у постели больного, а он молчал, поглаживая ее руку. — маленькую, жестко усохшую, и думал, что многие несчастья случаются оттого, что люди не умеют, не научились сдерживаться или просто молчать. Слова, слова... Время нескончаемых слов. Слова гасят любовь, порождают раздоры, иссушают души. Пора людей карать за многословие. Слово, произнесенное всуе, должно считаться самым злостным проступком, грехом. Молчание примирило их.
Они уселись пить чай, лишь вздыхая и обмениваясь виноватыми улыбками. Жестами, кивками предлагали друг другу финский брусничный джем, польское диетическое печенье, мармелад «Лимонные дольки» — все особого вкуса и аромата, купленное, приготовленное для встречи, так желанной обоими.
Поднеся к его блюдцу жестяное, рекламно расписанное ведерко с джемом, Евгения Николаевна осторожно спросила:
— Угадай, Степа, где я купила?
— В «Природе».
— Нет, там только наше. У соседки — она в универсаме торгует. За собачку. Оставляет, когда дома не ночует.
Посмеялись, радуясь согласному, чуть умильному настроению и притихли, опасаясь неосторожного слова, взгляда, движения. Ранние сумерки, синью потекшие из окна, как бы тоже умиротворяли, освежали их души, даже уличный гул затих, став протяжным, просторным, белым шумом метели.
Евгения Николаевна включила четырехламповую люстру «Алмаз».
Он оглядел комнату — не изменилось ли что здесь с его прежнего прихода? — и увидел на телевизоре глазастого, худенького, воздушноволосого ребенка, вроде бы мальчика (нелегко теперь отличить мальчика от девочки, словно сами родители не желают таких различий); он спросил, невольно настораживаясь:
— Кто это?
— Кити принесла. Ее третий... Забавный человечек.
Ему отчетливо припомнилась недавно умершая сестра Евгении Николаевны, театральная администраторша (из неудавшихся актрис, конечно), женщина волевая, обо всем имевшая свое категорическое мнение; она считала мужчин слабым полом и потому, вероятно, трижды сменила мужей, ни в одном не найдя идеала, достойного своей мечты. Детьми, однако, обзавелась — от каждого по ребенку — и называла их на иностранный манер: Николя, Пьер, Кити... Себе тоже придумала звучное артистическое имя: вместо обычной Марии Светликовой стала Маржаленой Свет.
Много ли света, тепла принесла она зрителям, искусству, сперва играя на сцене, затем администрируя, он не знал: не видел ее ни в одной пьесе, не ходил в ее театр (как ни принуждала его порой Евгения Николаевна), но определенно помнил, знал все долгие годы: это она, Маржалена, уговорила, заставила юную сестрицу Женю сделать аборт. И акушерку нашла, и задаток денежный сунула без ведома своей и его матери, а отцов у них не было, оба погибли на гражданской. Он прямо-таки до слез живо вообразил тогдашнюю Маржалену — с короткой стрижкой, в узкой длинной юбке, тесной жакетке; взгляд поверху и вдаль, рукопожатие жесткое, сугубо товарищеское, цель — ясна и тверда на всю будущую жизнь. «Какой ребенок? — прямо и четко сказала она испуганной Жене. — Каши, пеленки... Ты станешь домохозяйкой, прислугой мужу, семье, таких бросают. И правильно делают. Они тащат общество в темноту прошлого. Всему свое время. Стань сначала образованной равноправной личностью». Все стали личностями какими-никакими, в меру сил и способностей исполнили свой долг, только жизни свои прожили очень по-разному. Евгения Николаевна и он, ее бывший муж, остались одинокими. А волевая Маржалена Свет увидала не только внуков, но и правнуков, неизменно награждая «фотомордашками» (по ее выражению) младшую сестрицу. Теперь вот принесла свое третье чадо напористая, громкоголосая Кити, будто исполняя завет матери — напоминать Евгении Николаевне об ее бездетности.