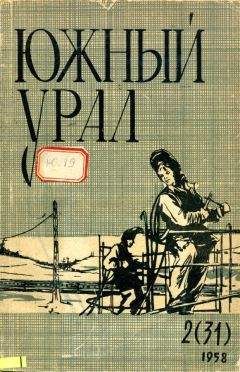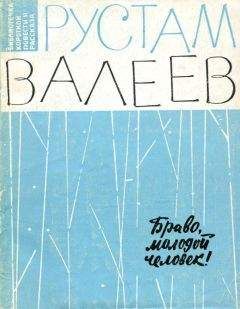Рустам Валеев - Земля городов
— Не может быть, чтобы их тут же и отправили. Они, наверно, еще в Челябинске.
Но на этот раз мы не поверили его здравомыслию.
Наконец приходит первое мая. Взрослые давно уже встали со сна. Я вскакиваю, бегу в ванную и там наталкиваюсь на Колю. Он одет, принаряжен, а сейчас моет руки — успел уже почистить ваксой ботинки. Мы наскоро завтракаем вместе с Бурбаками (отчим на заводе, там, наверно, заводские уже строятся в колонны и вовсю играет оркестр) и выходим во двор — мама, тетя Надя и мы с Колей; Дарья Стахеевна с Оксаной остаются дома.
— Вы, ребята, будете ждать нас во дворе, — говорит мама.
— Да, да, — кивает тетя Надя, умиленно глядя на нас. Глаза у нее влажнеют, она смеется, обмахиваясь ладонью.
Мы с Колей кочевряжимся, нам хочется на завод и там, пристроившись к колонне, выйти на улицу Спартака, главную магистраль города. Но мамы непреклонны, и мы остаемся ждать. Тут появляется Алеша и оповещает нас:
— Сейчас придет машина, может быть, даже две или три.
— Какие еще машины? Куда мы поедем?
— Неужели вы не знаете? — удивляется Алеша. — Папа дает гортоповский грузовик, и абалаковцы поедут на озеро. Неужели вам не сказали? К танкистам-добровольцам. С подарками.
И правда, скоро к крыльцу подъезжает трехтонка, мы садимся и догоняем еще одну трехтонку, убегающую от нас по дороге к озеру. Улицы повсюду запружены народом, мы едва пробиваемся там, где это дозволено милицией, и наконец выезжаем за город. Вот озеро блеснуло холодком, завиднелись перистые деревца, слегка зазеленевшие светлой редкой зеленью, крыши дачных домиков, жердяная ограда. У въезда стоит часовой. Когда мы выпрыгиваем из грузовика, он широко улыбается, как будто давно нас ждет, однако в ограду не пускает.
— Откуда, с абалаковского? Эй! — кричит он во двор. — Есть абалаковские? Встречай своих.
Мама спешно сует мне сверточек, и Коле, и Алеше, и еще двум девочкам — Гале и Соне. Что у меня? Пачка махорки. У Сони флакончик одеколона, завернутый в широкий носовой платок. Соня выронила флакончик и расплакалась, тетя Надя поднимает одеколон и сует девочке в руку:
— Отдашь папе.
— Мама, а я… кому я отдам махорку?
Мама смеется:
— Кому захочешь. Нашим, с абалаковского. Боже мой, я и сама ничего еще не знаю. Что, будет митинг? — спрашивает она председателя завкома.
Тот досадливо что-то бормочет и в который раз спрашивает часового, почему представителей трудящихся не пускают на территорию дач. Но тут выходят красноармейцы, смущенные, веселые, и тетя Надя бросается к Миколе Ефремовичу. Коля протягивает отцу сверточек с подарками. А я стою и сжимаю в руке пачку махорки.
На полянке под березами начинает играть патефон, женщины танцуют с бойцами; развернуты скатерти, люди угощаются. Все приобретает тягучую унылую медлительность, и я тоскливо думаю: отец, наверное, идет в колонне по улице Спартака, теперь мне туда ни за что не пробиться, я ничего, ничего не увижу! И тут меня окликает Алеша Салтыков.
— Не надо было сюда ехать, — говорит он, — а надо было к почтамту, там будет митинг, стрельба из орудий. А мы бы с крыши все-все видели.
— У меня целая пачка махорки, — успеваю я шепнуть, и тут патефон замолкает, слышатся команды, наши, вижу, садятся в машины.
— Едем, едем! — мама хватает нас за руки и устремляется к машине. — Едем, едем. Где же Надя? А вон Коля. Сюда, Коля!
Я еду в качающемся грузовике и в такт колебаниям моего туловища подношу к лицу то одну, то другую ладонь, пропахшую махоркой, и нюхаю с какою-то жадностью, может быть, жадностью кошки, пожирающей одной ей известные травы…
А в полдень у здания почтамта был митинг, и мы с Колей и Алешей пробирались между «студебеккерами» с прицепленными противотанковыми пушками, будто бы стараясь пробиться к высокому крыльцу почтамта, а на самом деле — лишь бы потереться возле машин. Потом был салют. Мы еще пробирались меж огромных рифленых колес, когда раздалась команда:
— Батарея, к бою… угломер тридцать-ноль, уровень ноль-ноль… огонь!
Грохнуло, кажется, где-то глубоко под землей, под асфальтовым покрытием, на мгновение ноги точно впаяло в зыбкий асфальт… Тяжело, мохнато, с перекатным рыком ушел грохот где по земле, где по воздуху в заречную синюю сторону.
Тот же голос скомандовал: «Расчет, по машинам!» — и мы, почти обезумев, с минуту носились между ревущими «студебеккерами», пока вдруг не вышли на пространство, по другую сторону которого стояли женщины и бросали в машины букеты цветов. Потом на наших грузовиках мы поехали на станцию, а там уже грузили на платформы автомашины, орудия, кухню.
Когда состав тронулся, на открытые площадки вагонов полетели теперь уже редкие букеты цветов, они тут же рассыпались, их уже теребило ветром движения, и стебли поодиночке срывались, срезались и падали на платформу. А там стало теребить чехлы на орудиях; стук колес и взвивающиеся чехлы уносились вдаль, слитые в нечто и видимое и слышимое…
Возвращаемся домой в душной, наглухо закрытой «эмке» Андрея Афанасьевича. Мы с Алешей обнялись, он дремлет. Андрей Афанасьевич оборачивается и подбрасывает нам свою кожаную куртку:
— Накройтесь.
— Как хорошо, что ты никуда не уезжаешь, папа! — И Алеша сильнее зажмуривает глаза и крепче меня обнимает. Андрей Афанасьевич делает вид, будто не слышит.
Они высаживают меня возле нашего дома, и я убегаю, едва махнув им рукой. Мои родители уже дома, уже попили чай и выходят из кухни.
— Чай еще горячий, — говорит мама. — Галеты в шкафу.
Поужинав и прибрав за собой, я с минуту стою посредине кухни в задумчивости. Потом извлекаю из кармана помятую пачку с махоркой и кладу ее на стол.
Приближается лето, все чаще я думаю о поездке в городок, к дедушке и бабушке. Я становлюсь оживленней, болтливей, но это своего рода скрытность: можно молоть всякую чушь, удивляя, беспокоя родителей, но тогда все то, о чем ты думаешь, — о своей поездке, о тамошних людях — все остается в тебе. Я мог сидеть за столом и болтать о чем угодно, а думать совсем о другом: вот входит моя бабушка, в одной руке у нее корзина, в другой огромная сумка; она опускает свой груз на пол, выпрямляется и на громкие протестующие восклицания матери спокойно и непререкаемо отвечает: «Это для внука», — хотя я-то ведь завтра же поеду с нею в городок.
Она привозила копченое мясо, яйца, сладости из теста и меда, морковь с грядок во дворе и даже молодую картошку, если дело было в августе. Рослая, сильная, цветущая, она была неотторжима от той снеди, которую производила собственным старанием и терпением.
Она была проста той простотой, которую иные назвали бы грубоватой, — проста, как наш городок, его бесхитростные простолюдины, его земля. Когда я смотрел на нее, в моем воображении возникала земля дедовского двора: вот грядки, лоснящиеся чернотой, сочные, источающие парок нетерпеливого томления; и те же грядки, глядящие в пустоту синего знойного дня зеленым жизнетворящим ликом, и грядки — опустошенные осенью, подымающие под легким налетом ветра серую пыль; вот лопухи, как добрые вислоухие собаки, в тени заборов, вот разнеженная сирень, сумбурные, густые неопрятные акации, в которые мы врубались, размахивая деревянными сабельками; вот Апуш, как завоеватель этой земли, с ярыми, прекрасными, как у воина, глазами, тяжеловесно вертится верхом на дедовой лошади в узком кругу плотного навоза, который поливается и поливается водой из ведер, — так месится кизяк; а потом все домочадцы будут набивать теплой пахучей массой деревянные формочки и шлепаньем оземь освобождать их…
Нравился ли мне городок? Конечно, конечно! Но прежде, но больше всего нравилась свобода, которую я получал, перемещаясь из одного обиталища в другое, — и сама свобода, и кратковременность, потому что свобода без конечной остановки в дедовском доме была бы все равно что межгалактическая пустота.
В то лето, военное лето, едва оказавшись в городке, я услышал знакомые разговоры о топливе. Здесь издавна проблема топлива была если не первой, то, без сомнения, второй после хлеба насущного. По тому, чем отапливал человек жилище, судили о его достатке. Пользующий березовые дрова был, разумеется, человек зажиточный; имеющий запасы кизяка не считался бедным — у него, стало быть, достаточно скота, чтобы иметь на всю долгую зиму кизяк; тот, кто топил печи соломой (это в окрестных селах), тоже не был бедняком — он сеял хлеб; а голь перекатная обходилась полынью. Здесь были дельцы, промышляющие топливом, воры, специализировавшиеся на топливе, и даже убийцы, которых грех попутал на березовых дровах. Такого драматизма, романтической горечи, конечно, не могло быть в Челябинске. А похожесть тем временем все же была.
Первые мои впечатления об отце тоже неотделимы от понятия топливо, тепло, а точнее, от его рассказа, который он много раз повторял с разными оттенками — то озорно, то зло, то слезно. Вот сидит он, протянув руки к жерлу гудящей печи, и рассказывает, как будучи мальчонкой отправился в степь, в заросли умерщвленной холодом полыни, ломал, рубил тесаком кусты в рост человека, а тут налетели слободские мальчишки, отобрали вязанки. А когда он полез с кулаками, избили, насовали за воротник снегу, потом расстегнули брюки и стали над ним, гогоча и поливая. Он вскочил и побежал, и спасло его только садистское упоение врагов, они промедлили, застегивая брюки.