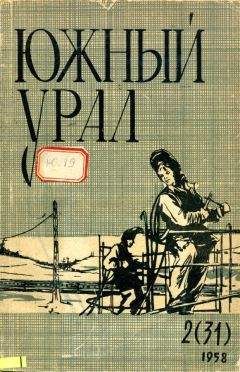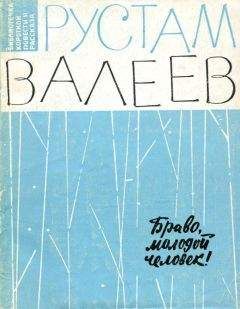Рустам Валеев - Земля городов
Той зимой мы с Колей взяли на себя рыцарскую обязанность провожать домой Антонину Григорьевну. В нас не было ни почтительной нежности к нашей учительнице, ни жалости, ни, тем более, желания угодить ей, нет, — нам, пожалуй, хотелось забот, которые уравняли бы нас с Алешей Салтыковым.
Мы учились во второй смене, и уже к концу уроков темнело, а пока Антонина Григорьевна заканчивала свои дела и выходила из школы, так и вовсе становилось темно. Учительница жила в Никольском поселке — надо было идти вдоль заводской узкоколейки среди пустынных снегов, затем в кромешных ущельях сугробных улочек поселка. Сперва учительница запрещала провожать себя, но мы были неуступчивы, и она сердито сдалась. Однажды мы очень долго ждали ее с педсовета. Антонина Григорьевна вышла часу, наверное, в десятом. Длительное ожидание и то, что мы видели постепенное замирание жизни в городе, и то, что промерзли, да еще нахлынувшие мысли о грабителях — все это порядком взвинтило наши нервы. Антонина Григорьевна гнала нас домой — бессмысленное дело, — да она, пожалуй, только набиралась храбрости, крича на нас, в этой кромешной тьме и рада была, что не одна пойдет домой…
Может быть, пыл наш был остужен холодом, тьмой и страхами — мы, как никогда, трусили в тот поздний вечер в заверти начинающегося бурана. Мы говорили громко, как бы стараясь устрашить злых духов ночи, потом стали громко петь. И со страхом и восторгом отскочили от жаркой брызжущей морды лошади. Кто-то соскочил с саней, и в следующий миг я узнал отчима.
— Что вы шатаетесь по ночам?! — вскричал он, обдавая нас паром изо рта и лихорадочным блеском глаз. — Марш, марш домой! Вон по той дороге, туда, туда! — он показывал в переулок, там еще гуще была темень. — Туда! — Затем возчику: — Едем! Погоняй! — Сани исчезли в холодном тумане.
Память не раз возвращала меня к той ночи: как вошли мы в переулок и, оглянувшись, увидели ватагу людей, бредущих по дороге; в чутком, затаившемся воздухе ночи густо перекатывался натужный тесный скрип шагов, надрывный ступенчатый кашель, едва вздымающийся над толпой и как бы опять падающий в нее; и взлетало, обмирало над людьми их дыхание, ставшее белесым чуждым облаком. На миг, помню, показалось, что отчим там, среди этих людей…
В ту ночь он дежурил по заводу, и случилось чрезвычайное: трудармейцы не вышли на работу. Остановилась подача заготовок в механический цех, простой грозил катастрофой. Отчим организовал бригаду из мастеров и приказал возить заготовки из литейки, а сам поехал в бараки горстроя, где жили трудармейцы. Он тряс, вытаскивал из постели каждого, строил в колонну, наконец, не утерпев, взял в сани нескольких рабочих и помчал на завод.
Через много лет мама вспоминала:
— Он говорил: еще один такой случай — и я спасую. Он говорил искренно, и, наверное, силы его были на пределе.
Война в прах разбила его мечты о новых плугах, с войною он как бы померк, оттеснен был на задний план. В то время как на завод прибывали рабочие и инженеры с московского и херсонского заводов, сгружались и перетаскивались станки и оборудование, кипели страсти, кому руководить заводом — местным инженерам или приезжим, имеющим большой опыт, — он в это время с двумя-тремя помощниками переносил свои архивы из комнат, которые тут же занимались приезжими. (Булатовские архивы были кое-как пристроены в легоньком дощатом помещении, туда потом лазили фезеушники и растаскивали его бумаги — благо листы с одной стороны были чисты и годились для писания писем.) Из цехов под открытое небо выставляли штампы плугов. Булатов заикнулся было о навесе, но ему напомнили: каждая щепка на учете! И правда, строился засыпной, барачного типа, цех для московских и херсонских станков.
Булатов ежеутренне шел к своим плугам, вместе с механиками протирал, смазывал и тоскливо думал: от ржавления плуги все равно не убережешь. Но и тут ему сказали: хватит, дескать, над плугами дышать, надо оборудование налаживать. Потом он организовывал столовые в цехах, когда завод перешел на казарменное положение, потом его назначили сменным директором, но и в этом своем качестве он пробыл недолго — и уж неизвестно в какой должности занимался мобилизацией рабочей силы. В ту жестокую зиму, когда немцы стояли под Москвой, он и подумать не мог о возвращении к своим плугам. Но именно так и случилось.
Помню, весь этот вечер жители наших трех домов собирались группами то во дворе, то шли на общую кухню, то в чью-нибудь комнату и, наконец, заглянули к нам. Говорили только об одном: о разгроме фашистов под Москвой. Мать угощала гостей чем бог послал и все как будто старалась удержать до прихода отчима. Но он задерживался, гости разошлись, квартиранты наши легли спать. А мы с матерью сидели на кухне и ждали…
Вот идет он прямо в кухню, перекинув через руку пальто, на шапке снег и на валенках снег, глаза превеселые:
— Новость слыхали?
— Боже мой, — улыбается мама, — конечно, слыхали!
— Слыхали? — недоверчиво и разочарованно говорит он. — Но не может быть. — Он смеется закатисто: — Мы будем делать плуги!
— Плуги?
— Плуги, милая. Немцы драпают, значит, скоро будем пахать и сеять там, где они покамест драпают. Словом, наше конструкторское бюро освобождается от спецпроизводства. Херсонцы передают нам прежний наш цех, а им новый строят…
— Повесь же пальто, — говорит мама, — дай я повешу. И валенки сними.
Оба уходят в переднюю, вешают одежду, мамин счастливый смех сливается с добродушным его бурчанием. Чудно, на меня как будто не обращают внимания, но я вижу их обоюдную приязнь и самоотреченно радуюсь.
Они возвращаются.
— А я на радостях гостей потчевала, — говорит мама. — У нас ведь есть спирт, который ты в орсе получил.
— Я ничего не получал.
— Ну, я получила.
— Угу, — сердито кивает отчим. — Сейчас, однако, не принято угощать. Уж если гости, так со своим провиантом. Это все твои купеческие замашки.
Мать смущена уколом, но отвечает спокойно:
— Оставим купеческие замашки в покое. У нас были бы продукты, если обменять спирт и материю…
— Не умею ни менять, ни торговать.
— Но ведь для того и дается…
Он вскидывает голову и вдруг смеется:
— Какая все ерунда! Не интересно, правда? Что-нибудь от гостей осталось? Вот и неси.
Они наливают в стаканы спирт, разбавляют водой, усмехнувшись, стукаются стаканами и выпивают. Мама кладет в тарелки горячую картошку.
— Да! — как бы только сейчас вспомнила она. — Старшие наши ребята идут на завод, вся моя группа.
— Угу. А тебе малышей?
— Я на завод. Естественно, правда?
— Да! — воскликнул он и притронулся к ее плечу, обнял и меня, не глядя, не ища, как будто я постоянно находился у него под рукой. — Да, милые вы мои! Когда человек исполняет свой долг, все должно быть естественно… единственно, уж не знаю, как надо сказать… — Он засмеялся, проникая в мое трепещущее благодарное тельце добротой и покоем своего смеха.
2
Ее питомцам было, наверное, лет четырнадцать — пятнадцать. Они очищали детали от смазки, мыли в горячей воде, полоскали в скипидаре или бензине. Мама, бывшая их воспитательница, делала в сущности то же, что и они.
И вот как сейчас вижу: сидят они за столом, отчим глядит на ее припухлые, покрытые ссадинами руки и хмурится.
— Хотя бы механизировали мойку, — жалуется мама.
— Бензина не напасешься.
— Детей жалко, Зинат…
— Бензина не напасешься, — машинально повторяет он.
На следующий день, рассказывали, Булатов пришел в цех, где работали мама и ее питомцы. Долго, молча наблюдал он работу, затем взял деталь и рассеянно стал протирать ее газетой, оказавшейся у него в кармане. С усталым вздохом присел на ящик и с тем же рассеянным видом стал подбрасывать деталь в ладонях. Но, завидев начальника цеха, быстро поднялся и пошел тому навстречу.
— Вот, — сказал он, показывая деталь, — бумагой оттер.
— А где столько бумаги взять?
— Верно. — И тут он наклонился и зачерпнул горстью опилок. (Их насыпали под ноги, чтобы уберечь обувь от грязи и смазки.) — А ну! — сказал он мастеру. — Пусть-ка принесут еще опилок.
Вдвоем с начальником цеха они протирали деталь за деталью, мастера и рабочие только успевали подносить. Наконец пригласили военпреда и показали протертые детали. Что ж, сказал тот, мытье отменяется.
Проходит несколько дней, мама и отчим опять беседуют за ужином. Мама говорит:
— К нам теперь машинами возят опилки.
Отчим удовлетворенно хмыкнул, но не поднял глаз от газеты.
— Мастера наши оформили рацпредложение, — продолжала мама. — У тебя из-под носа увели твое новшество.
— Новшество? Да если бы я все этакое оформлял, некогда было бы работать. — Он оставляет газету и, нахмурившись, спрашивает: — Что это ты выдумала — строить стадион?