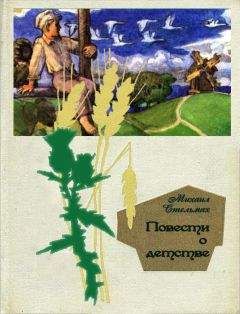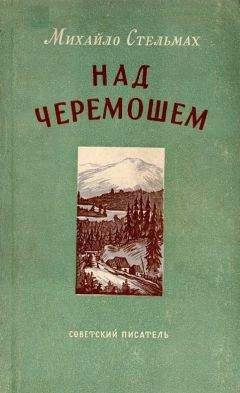Михаил Стельмах - Щедрый вечер
После этой речи дядька Себастьян распогодился, а милиционер, что все время то возмущался, то недоверчиво хмыкал, то кусал губы, — зашипел, заклекотал, захрипел, протер рукой по глазам и сказал:
— Правильно. Ой, не было этим утром у меня ни совести, ни клепки в голове! — Он пригнулся к тетке Марине, поцеловал ее в привядшую щеку, а потом загрустил: — Оно–то так. А что теперь с чертовыми этими пулеметами делать? Начнут нас таскать по инстанциям, и начнут сомневаться, и допытываться, и протоколы писать и всякую всячину. Вот попали в переплет на самое рождество. Теперь и рюмки не выпьешь, а скачи в уезд на сломанную голову.
— Василий, а не лучше ли будет, чтобы Яков без лишних хлопот забрал себе эти пулеметы — и на огонь? — доверчиво спросила тетка Марина. — Он мне за них сделает и сковородник, и ухваты, и лопату, потому что теперь так туго с железом…
— Эт, сельская наивность! — безнадежно махнул рукой милиционер и задумчиво обратился к дяде Себастьяну: — И какую здесь придумать резолюцию?..
Раздел девятый
Оно, конечно, ерунда, писать пьесы в четвертом классе, но что сделаешь, когда тебя так тянет к этому писанию? Уже вся школа подсмеивается над моим зудом, уже ко мне прицепилось несколько обидных прозвищ, а кое–кто из одноклассников втайне подшучивает над моей писаниной — рисует на ней и чертики, и дули. Обидно и больно становится от этого, но я бью бедой об землю и держусь своего. Теперь уже, идя на перерыв, я не оставляю свои злосчастные тетради под партой, а засовываю в карман. Что и говорить, неудобство большое, особенно когда приходится кувыркаться, но искусство требует жертв.
А вечерами и в погоду, и в ненастье чешу в хату–читальню, что открылась месяца с два тому. Здесь я перечитываю какие ни есть пьесы, даже пьесы–суды над сорняками, засухой и бандитами.
Больше же всего мне нравятся те драмы и трагедии, в которых много стреляют. Об этом хорошо знает наш заведующий хаты–читальни, поэтому он иногда мое появление встречает завзятым восклицанием:
— Михаил, привез пьесу со стрельбой!
— И много ее? — замираю от радости.
— Во всех сценах и немного вне сцен там из пушек бьют!
— Это пьеса! — радуюсь я.
А заведующий собирает с полусотни морщин вокруг глаз и смеется — такой славный человек случился. Иногда, когда расходятся люди, он просит, чтобы я прочитал ему свое, из пьесы, над прочитанным долго думает, теребит кончик носа и сожалеет, что не пишу стихов, — он бы их поместил в стенгазете, которую тогда сходилось читать все село. Но я упрямо держусь драматургии, потому что, видать, такова моя судьба.
Вчера, то бледнея, то краснея, я сдал свою третью пьесу Насте Васильевне. Она бережно взяла мои тетради, полистала верхнюю и спросила:
— А стрельба в них есть?
— Есть, и даже много!
— Вот и хорошо, — одобрительно качнула головой Настя Васильевна, а я немного подрос: хоть что–нибудь хорошо есть в моей писанине…
Сейчас я лежу ничком на печи, передо мной мигает заправленный трофейным бензином ночник, а в глазах мерцают буквы, — сегодня читается и не читается мне, мысли все кружат вокруг написанного: что о нем скажет учительница? И имею я сомнений и терзаний больше, чем надо. А за окнами кряхтит мороз и посвистывает ветер, он трогает примороженные ветки груши и добывает из них то стон, то серебряный перезвон. Вот бы и грушу можно было бы вставить в пьесу, и пулеметчиков возле нее, а в ветки груши врисовать молодую луну, которой сейчас нет. За своими мыслями я не услышал, когда из школы вернулся отец.
— Сегодня наш отец с какого–то дива аж гудит внутри, — несет ему улыбку мать.
На эту речь отец бросил одним глазом на меня, вторым на мать:
— Скоро и ты загудишь голубкой, когда начнешь собираться в тиятр.
От одного слова о театре я навострил уши, прирос к печи, а взглядом впился в отцово лицо: радость или насмешка покажутся на нем?
— Снова какой–то тиятр приезжает к нам? — прядя пряжу, допытывается мать.
— Не приезжает, а вон весь тиятр вылеживается на печи, — отец снова глянул на меня. — Вот же написало оно какую–то пьесу, и ее поставят в школе. Вот будет кумедия!
Я еще больше врастаю в печь, радость и страх уцепились в мою душу, а в это время за меня заступается мать:
— И чего бы я вот подсмеивалась над своим ребенком, когда оно себе что–то пишет каракулями.
— Что ты понимаешь! Сама учительница сказала, что твой сорванец писателем становится. И кто нам тогда корову будет пасти?
— Ты хоть толком, без насмешек скажи: что о нем учительница говорила?
— Вот же и говорила: школа поставит его пьесу, цена билета будет пять копеек, а пустят ли нас с тобой бесплатно — постеснялся спросить. Как, сынок, пустят родителей твоих?
— Как немного придержите свои насмешки, так, может, и пустят, — говорю осторожно, потому что кто же знает, как оно обернется дело.
Мать враз накрыла отца мокрой дерюгой:
— Теперь, кажется, и у тебя, и у Николая языки одинаковое мелют.
— Уже и ты не веришь мужу, а он принес тебе чистейшую правду, даже слова не замутил.
— Отец, и в самом деле учительница сказала, что… той, поставят? — зазвучал надеждой мой голос.
— Да, несомненно, поставят. Сегодня все учителя прочитали твою мазню, что–то подрезали в ней, а что–то дописали и сошлись на том, что нашему селу никак нельзя без своего писателя. Чего я с тобой до сих пор, как с простым, говорил? Вот уж извини, сынок, — дружески и насмешливо посмотрел на меня отец и за волосы дернул. — Пустишь нас с мамой в тиятры?
— Ой папочка!.. — Невероятные ожидания, невероятные надежды залетают в мою душу и ведут к тому дню, о котором и радостно и страшно подумать.
— Так чего же так застеснялся? — снова теребит отец меня за волосы. — Может, и в самом деле из нас что–то будет?
А в это время на дворе откликнулся Рябко, задребезжал засов на калитке, отец вышел в овин и скоро вернулся с дядей Николаем, который был одет в длинную, на вырост, кирею. Мужчина отряхнулся, обмел с сапог снег, глянул на меня, спросил, пропустят ли и его в театр.
— О, и вы знаете, — скривился я.
— Все село знает. У нас с кашлем и пьесой не скроешься. Вот же и пришел к тебе: не выставил ли там на смех людям дядьку Николая, ибо что тогда скажет Лукерья?
Мы все начинаем смеяться, а во мне просыпается сожаление: надо было бы вписать в пьесу что–то из дядьковых смешных историй. Вот он расправил свои гетманские усищи и уже серьезно спрашивает отца:
— Афанасий, хочешь на щедрый вечер раздобыть свеженькой рыбы?
— Как это — раздобыть? — недоверчиво косится на него отец. — В воде или в магазине?
— На дармовщину! В воде из–подо льда.
— Чего же об этой дармовщине Владимиру не сказал? — подсмеивается отец.
— Да он же меня за кур греховодником обзывает, а сам такой имеет грешный глаз, что всю рыбу перепугает — на дно пойдет. Вот только что встретился с одним рыбаком, так он сказал: в Щедровой теперь ловят рыбу целыми мешками. Надо и нам мотнуться.
— Сколько же берешь с собой мешков?
— Четыре и сумку про запас, — не моргнув глазом, ответил дядька Николай.
Мать затряслась от хохота:
— Чего же так мало?
— Жалко все мешки марать рыбой. Что в мешки не поместится — на сани бросим, — даже не улыбнется дядька Николай. — Так поедем, Афанасий?
— Можно и поехать, — согласился отец. — Готовь, жена, мешки!
— И на рыбу, и на вьюнов, — прибавляет дядька Николай. — Я знаю такой закоулок, где всегда зимуют вьюны, собьются в клубки и ждут тепла. Когда–то наловил их чуть ли не полный мешок, привез мерзлых домой, бросил под скамейку, а сам лег спать. Просыпаюсь от невменяемого вопля. Смотрю: залезла моя Лукерья на лежанку прямо с сапогами, в руках держит ночник и кричит не своим голосом.
«Что там у тебя?»
«Ой, посмотри на пол, — аж трясется она, — кто–то ужей полон дом напустил!»
Глянул, а по полу мои вьюны ползают, — чисто все разморозились. Вынужден был я их во второй раз ловить и нести к соседям, потому что Лукерья со страха и смотреть не захотела на них, и дома ночевать побоялась. Из–за этих вьюнов чуть любовь не потерял.
Мы все смеемся, а дядька Николай вплетает руку в свои гетманские усы, выдумывая еще какую–то побасенку.
— Отец, возьмите и меня в Щедровую! — прошусь, потому что уже само слово «Щедровая» звучит мне сказкой.
— Обойдемся без тебя, — отмахнулся отец рукой.
— Возьмите, папочка.
— Там надо целый день пробыть на морозе, а он и в косточки твои влезет.
— А на катке я же бываю по целым дням!
Отец переглянулся с мамой, покачал головой, взглянул на дядю Николая:
— Что нам делать с ним? Может, возьмем, потому что оно же такое неотвязное.
— Пусть приучается ко всякому делу.