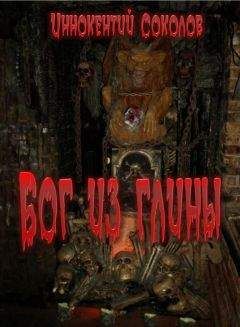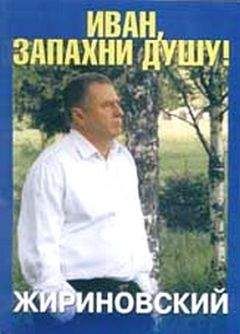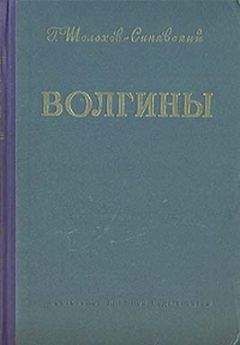Георгий Шолохов-Синявский - Суровая путина
В ноябре умер Семен Аристархов. Вскоре после смерти отца Липа ушла жить к дяде, в хутор Рогожкино. Сырым осенним вечером простился с ней Анисим, обещал навещать ее. Опустела хата Аристарховых. Печаля Аниськин взор, зияли выбитые стекла окон, под раздерганной застрехой табунились шумные воробьиные выводки. Будто и не было в хуторе казака Семена Аристархова.
Теперь, возвращаясь на дубе с ловли, Аниська часто заезжал в ставший для него родным хутор Рогожкино.
Федора, зная о сердечной привязанности сына, надеялась увидеть в хате своей невестку и помощницу, но дядя Липы, набожный казак, косо встречал Аниську.
Декабрь начался ясными бесснежными днями. На пожелтевшей ниве вызревших камышей по утрам сверкала изморозь. Солнце гуляло над гирлами низкое, ветреющее. Гирла, еще не замерзшие, студено темнели. Только у берегов молочно белела хрупкая звенящая кромка льда.
Предвещая стужу, гудело по ночам море, а утром синело ослепительно, словно радуясь недолговечному декабрьскому солнцу.
В одно погожее студеное утро прискакал к Аниське Яков Иванович Малахов. Поставив под навесом сарая свою калмыцкую коротконогую лошаденку, вошел в хату, как всегда, опрятно одетый, чистый, спокойный.
Аниська, всегда чувствовавший перед ним мальчишескую робость, засуетился.
— Яков Иванович, присаживайтесь. Маманя, ты бы нам чайку. Обогреться с дороги Якову Ивановичу.
— Егорыч, и охота тебе! Не утруждайся. Я только на час.
Малахов озабоченно сдвинул брови, захватив в горсть клок обындевелой бороды, долго мял ее, задумчиво глядя в угол.
— Рыбалок недвиговских побили, слыхал? — вдруг сообщил он, поднимая на Аниську неузнаваемо потемневшие глаза.
Аниську овеяло холодком.
— Вахмистр? — спросил он, насторожившись.
— Сам Тимофей Андрианыч Шаров!
Малахов продолжал снимать сосульки с куцой гнедоватой бороды, щурился на блеклый, тающий на глиняном полу солнечный луч.
— Так-то, Анисим Егорыч, бьют рыбалок понемногу, — вздохнул Малахов, — а мы помалкиваем. На печке греемся, будто это нас не касается.
Аниська, хмурясь, молчал. Малахов, нетерпеливо косясь на Федору, прошептал ему на ухо:
— Ушли мать куда-нибудь. Скажу чего-сь…
Когда Федора вышла, Малахов сказал:
— Говори прямо, Анисим Егорыч, хочешь в мою компанию вступить?
— В какую, Яков Иванович? Я и так с тобой в одной компании.
— То — одна, а моя — другая.
Малахов недобро прищурился.
— Я знаю, о чем вы с Панфилом Шкоркой договаривались… Кто хочет Шарова, а либо вахмистра к ракам пустить, а?
Аниська побледнел.
— Не шути, Яков Иванович. Никогда у нас такого сговору не было. Приснилось тебе, должно быть.
— Ну, ну, не отнекивайся. А винтовка, что у пихрецов украл, тоже приснилась, а?
Малахов тихонько захохотал.
— Ну и Анися! Ох-хо-хо! Додумался же, а? Самого Шарова! Ну-ну.
— Яков Иванович, замолчи, — сердито взмолился Аниська. — В тюрьму хочешь меня загнать, так не мне говори, а другому. Кто тебе сказал?
— Друзьяк твой и сказал. Кто же больше?
Аниська оторопело моргнул, но тут же твердо взмахнул рукой.
— Так знай же, Яков Иванович. Теперь для меня все едино. Не на жизнь, а насмерть — Крюкова, Шарова, кто первый попадется. А теперь можешь доносить атаману.
— Дурко ты, а с виду сурьезный человек, — обиделся Малахов. — Запомни: ты еще в айданчики с ребятами гулял, как люди об этом думали. Ты, Егорыч, опоздал. И чтобы совсем в мальчиках не остаться, заявляйся ко мне нонче же под вечерок с Панфилом. Прощай!
Оставшись один, Аниська долго бродил по хате в тягостном раздумье. Не успокоился он и вечером, когда в светлом курене Малахова обсуждался тайный крутийский заговор.
30Медленно, неуверенно надвигалась зима. Крепкие заморозки, тихие снегопады сменялись короткой оттепелью, певучей весенней капелью, стылыми дождями. Лед в гирлах и на взморье был тонок, его часто ломало. Над морем бушевали штормы — страшно было выезжать на лов. Рыбаки, ругая непостоянство погоды, отсиживались дома, прогуливали зимний ход леща и судака. Горькая нужда снова сурово заглядывала в рыбацкие курени.
С нетерпением ждал Аниська, когда окрепнет лед. Каждое утро выбегал во двор, ловил чутьем движение ветра. Серый туман валился с неба рыхлыми клубами. На деревьях, как кружева, висел белый иней. На Мертвом Донце еле держалась свинцово-синяя ледяная пленка. Аниська с тоской глядел на обвешанный инеем дуб, на слегка забеленное снегом займище; грозя кулаком в равнодушное небо, проклинал гнилую зиму.
Но вот закрутила «верховка», с половины января ударил двадцатиградусный мороз. Рыбаки-казаки стали готовиться к «скачку» — подледному лову в заповеднике, к веселой рыбацкой ярмарке. Спешно чинились сетки, снаряжались прасолами новые, состоящие преимущественно из казаков ватаги. Со всех хуторов и верховых станиц днем и ночью вереницами потянулись к месту лова развалистые рыбацкие сани. Над Доном и Мертвым Донцом не умолкал визг кованых, стальными подрезами полозьев, возбужденный говор.
На рыбных промыслах закипала работа. Прасолы, покряхтывая от мороза, обходили заводы, часами торговались с ватагами, сманивая каждый на свою сторону как можно больше людей, бесплатно угощая их водкой.
Казаки гордо носили чубатые головы, а иногородние сердито посматривали на взморье, мутно блестевшее под низким январским солнцем.
«Скачок» предназначался только для казаков, и сколько зависти, корыстливой вражды, обиды порождал он в рыбацких сердцах!
Ранним утром Аниська вышел со двора.
У промыслов в седой морозной мгле шумел народ.
Осторожно протискиваясь сквозь толпу, Аниська искал глазами знакомых. У крайнего сарая, сутулясь, стояли Панфил и Васька.
— Чего доброго, в чью ватагу подрядились, хлопцы? — подходя к ним, спросил Аниська.
— Еще не успели, — потирая посинелый нос, ответил Васька.
— Торбохватов[27] и без нас хватит, — криво усмехнулся Панфил и, поудобнее взлегая на костыль, добавил: — Эх, шумит казачня! Вот когда ихний праздник настал.
Аниська завистливо осмотрел берег.
— Еще где «скачок», а они, как сазаны в водаке, сбились… А я вот не торбохватить поеду, а сыпать!
— Тю на тебя! — удивился Васька. — Кто же тебя допустит?
— Не пустят — прошмыгну. Не одним казакам скачковые тони тянуть.
Важно подняв голову, прошагал мимо «доверенный»[28], высокий бородатый казак.
Он подозрительно, начальнически строго осмотрел рыбаков.
— Следят, — презрительно шепнул Панфил, — хозяев корчат. А то забыли, как шлепал их Шаров без разбору с хохлами.
Аниська досадливо сплюнул, потянул Панфила за руку.
— Пусть собираются, а мы свое придумаем. Пошли, Васек!
В жарко натопленной, пропахшей дымом хате Аниська, Панфил и Васька уселись за стол.
Федора пекла пахучие пшеничные пышки, намазывая их каймаком, подкладывала поочередно Панфилу и Ваське. На: щитке игриво шумел чайник. Обжигаясь чаем, Аниська строго щурил глаза, говорил:
— Нонче же на ночь выезжаем в Рогожкино. Чтоб к завтрашнему быть на «скачке». А там видно будет.
— А Кобцы, а Малахов? — давясь пышкой, спрашивал Панфил.
— С ними уже сговорено. В Рогожкино встретимся.
Выпроводив товарищей, Аниська задал лошади двойную порцию корма, уложил в сани новые сетки. Подыспод в пахучий настил сена засунул густо смазанную маслом винтовку, набитый патронами подсумок.
Сумерками трое крылатых саней, укрытых попонами, выехали из хутора.
Под пасмурным низким небом свинцово и холодно синела займищная даль, срывался мелкий сухой снежок.
В Рогожкино приехали поздно вечером. Приветливо светились окна опрятных рыбацких домиков. На выглаженной полозьями, оснеженной улице толпились рядами сани. Хутор походил на огромный постоялый двор. Близость «скачков» чувствовалась здесь особенно сильно. Дворы кишели незнакомым людом. Возле костров грелись нездешние обындевелые постояльцы.
Проехав пустынными проулками, Аниська с товарищами завернул в знакомый двор.
В хате было жарко до духоты; рыбаки скоро почувствовали тяжесть полушубков, но сидели не раздеваясь. Аниська разглядывал уже знакомые, развешанные на стенах лубки, изображавшие царскую семью и бравых казачьих генералов, с нетерпением и тревогой поглядывал на дверь.
— Далеко посуду везете? — спросил хозяин после тягучего, неловкого молчания.
— В Елизаветовку, — рассеянно ответил Аниська. — Надо вот поспешать, а лошади пристали. Пойду погляжу.
Аниська вышел на крыльцо. Чьи-то озябшие руки нетерпеливо рванулись к нему из темноты, крепко обвили шею. Аниська неловко обернулся, по-медвежьи, в охапку, поймал закутанную в шаль девушку.
— Сиротиночка моя! — приглушенно воскликнул он, ловя губами невидные в сумраке холодноватые губы.