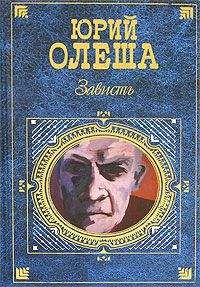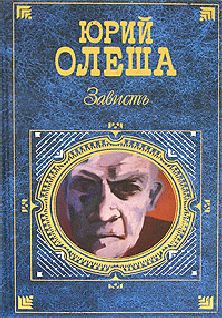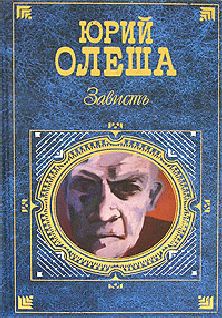Юрий Олеша - Зависть (сборник)
Повязка была ослепительно бела, она сделала руку тяжелой, самостоятельной и красивой. Затем я стал отрывать отдельные нити марли: они не отрывались – они нежно отъединялись, причем обнаруживалась решетчатость ткани; когда они падали на одежду, их никак нельзя было снять, и, нагибаясь за ними, мешала поврежденная рука, все время приподнятая, устремленная к пальцу, который в бинте своем, к концу дня разбухшем и расслоившемся, стал походить на горлышко бутылки с наливкой.
Я читаю, сидя на железной лестнице. Все уехали на дачу, у меня болячка на пальце, мне приятно оттого, что у меня болячка; я одинок, никто не обидел меня, но искусственными мерами – раздумыванием о болезненности раны и о том, что на даче сейчас веселятся, – я вызываю чувство обиды.
Оно появляется, и целый сонм спутников сопровождает его. И это веселые спутники, их лица смеются, и я тоже начинаю смеяться. Я смеюсь, удивляюсь тому, что грусть, и чувство обиды, и одиночество приятны и бодрящи.
Я владею секретом превращения грусти в бодрость. В любой момент я могу воспользоваться им. Но мне приятней грустить: я закрываю глаза, сладкая дрожь пронизывает меня. Я открываю глаза и среди синего неба вижу радугу, потому что на ресницах у меня слезы.
Я люблю читать, кривляясь перед самим собой. Я плачу, отлично сознавая веселость свою, я ставлю себя на место героя и хочу быть таким, как он.
Иногда он кажется мне недостижимым, а иногда я говорю себе, что не было в мире такой судьбы – ни действительной, ни вымышленной, – которую можно было бы сравнить с судьбой, предназначенной мне, что я лучше всех и жизнь моя будет замечательной.
Герой живет во Франции.
Я поднимаю взгляд. Передо мной кирпич и зелень, по кирпичу движется листва, – это моя Франция, сочетание кирпича и зелени! Вместе с героем идем мы под кирпичом и зеленью, в некоей Франции, стране моего будущего… Вот как я читаю, папа!
Мне кажется, что развитие мужской судьбы, мужского характера не в малой степени предопределяется тем, привязан ли был мальчик к отцу.
Быть может, можно разделить мужские характеры на две категории: одну составят те, которые слагались под влиянием сыновней любви, другую – те, которыми управляла жажда освобождения, тайная, несознаваемая жажда, внезапно во сне принимающая вид постыдного события, когда человека обнажают и разглядывают обнаженного.
Так возникает мысль о бегстве, о дороге, о сладости быть униженным, о вознаграждении жалостью, о войне, о солдате, о безрукости.
Так образуются ночи, когда мальчик думает о том, что он подкидыш.
Так начинаются поиски: отца, родины, профессии, талисмана, который может оказаться славой или властью.
Так создается одиночество – навсегда, одинокая судьба, удел человеку оставаться одиноким везде и во всем. Его называют мечтателем, над ним смеются; он допускает это, он и сам смеется с другими, – и люди объясняют это тем, что он ничтожен, угодлив, он идет одиноко, втянув в плечи голову, в которой тщеславие, высокомерие, самоунижение, презрение к людям, сменяющееся умилением, мысли о смерти образуют никогда не утихающую бурю.
Она не вырывается за пределы этого болезненного черепа, человек укрощает ее, втягивая голову в плечи, и только иногда он оборачивается вслед засмеявшимся, и засмеявшийся видит тогда, что на лице, которое его всегда смешило, сверкает собачий оскал.
1928
АЛЬДЕБАРАН
На скамье сидела компания: девушка, молодой человек и некий ученый старик. Было летнее утро. Над ними стояло могучее дерево с дуплом. Из дупла легко веяло затхлостью. Старик вспомнил детские проникновения в погреб.
Молодой человек сказал:
– Я сегодня свободный весь день.
– Я тоже, – сказал ученый старик.
Молодой человек работал машинистом на трамбующей машине «буффало». Он укатывал асфальтовые мостовые. Он был латыш, по фамилии Цвибол. Саша Цвибол.
Подошла цыганская девочка величиной с веник.
Она предложила лилии.
– Пошла вон, – сказал ученый старик.
Саша Цвибол возмутился.
– Вот как, – удивился старик, – вас это умиляет. Странно из уст комсомольца слышать защиту бродяжничества.
– Она – ребенок! – сказала девушка.
– Ребенок? Скажите, пожалуйста: социализм, следовательно, есть христианский рай детей и нищих?
Старик говорил звонко, тенором. Между прочим, это был красивый и вполне здоровый старик – один из тех стариков, которые курят, пьют, не соблюдают диеты, спят на левом боку и говорят о себе: «Ого!»
Звали его Богемский. Он сотрудничал по составлению Большой советской энциклопедии.
Он влюбился в девушку. Она сидела рядом. Она положила руку на колено молодого. Тогда старый спросил:
– Быть может, я лишний?
Молодой вздохнул, снял картуз. Круглая красноармейская голова его была низко острижена. Он был блондин. Голова его блестела, как бульон. Он почесал темя.
Старик встал и кинул окурок в дупло.
– Мы поедем с Сашей на реку, – сказала девушка.
Старика на реку молчаливо не пригласили.
– Проводите нас до автобуса, – сказала девушка.
Они пошли. Она шла на шаг впереди.
Богемский смотрел ей в спину и думал:
«Нет, это не любовь. Это похоть. Трусливая старческая похоть. Я хочу тебя съесть. Слышишь? Я бы тебя съел, начиная со спины, с подлопаточных мест».
– Какая красивая! – сказал Цвибол.
Эти восторженные слова он сказал с акцентом. И прозвучало мужественно. Из восторженности с поправкой на мужественность получилась застенчивая страстность. И старик позавидовал.
– Катя, ваш возлюбленный похож на римлянина! – крикнул он девушке.
– Я из Риги, – сказал Цвибол.
– Ну что же? Это тот же стиль. Воины. Орден Храмовников.
– Теперь нет Хамовников, – через плечо сказала Катя, – теперь называется Фрунзенский район.
Они подошли к остановке.
– А вдруг пойдет дождь? – сказал Богемский.
– Не пойдет, – сказал Цвибол.
Они подняли головы. Небо было чистое. Синее небо.
– Дождь – враг влюбленных, – сказал старик, – он выгоняет их прочь из садов. Злой сторож морали.
Подошел автобус.
Они не успели сказать ученому старику «до свидания».
Он увидел Катю, уносимую на подножке. Она входила в дверцу. Поддуваемая ветром движения, она приобрела сходство с гиацинтом.
Богемский шел в неопределенном направлении.
Он был высок и строен. Он шагал, как юноша. На нем разлеталась черная пелерина. На седых кудрях стояла черная шляпа. Он был тем пешеходом, которого побаиваются псы. Он идет. Пес, бегущий навстречу, вдруг останавливается, смотрит секунду на идущего и перебегает на другую сторону. Там он бежит под стеной, останавливается, когда пешеход уже далеко впереди, и смотрит пешеходу вслед.
Богемский шел и размышлял о девушке. «Первоклассная девушка. Она – первоклассная девушка и не знает себе цены. При других объективных условиях она вертела бы историей». Он стал размышлять о веке просвещенного абсолютизма. Герцогиня дю Барри. Салоны. И многое другое. Директория. Баррас. Возвышение Бонапарта. Госпожа Рекамье. Женщины говорили по-латыни. Игра ума. Нити политики в маленькой ручке. Жорж Занд. Шопен. Ида Рубинштейн.
Саша Цвибол.
«Солдат, – думал Богемский. – Дон Хозе. Печальная повесть. Молодой коммунист влюбился в Кармен. Саша Цвибол, простодушный пастух, попался на удочку. Интересно. Он потрясен ею. Еще бы! Он и сам не подозревает, в чем ее сила. Он – тот ротозей на ярмарочной площади, который хватается за электрические катушки и корчится и, корчась, не понимает, отчего корчится. Коммунист. Смешно. Комсомолка. Смешно. Я живу на свете очень много лет. Я помню, как танцевали в Париже канкан. Я все знаю, все видел, все обдумал. Я очень стар, Катенька. Я – дело Дрейфуса, я – королева Виктория, я – открытие Суэцкого канала. Цвибол, которого вы любите, говорит вам многие прекрасные вещи о строительстве, о социализме, о науке, о технике, которая переделает человека. Ах, Катюша, молодой возлюбленный ваш говорит вам о классовой борьбе… Смешно. Легко говорить ему о чем угодно, когда вы улыбаетесь ему. А я, который старше Художественного театра вдвое и которому вы не улыбаетесь, мудро говорю вам, перефразируя поэта: любви все классы покорны…
А в это время они раздеваются в какой-то грелке на сваях. Под сваями стоит неподвижная базальтовая вода. Они шумят. Там шум, возгласы, плеск голого тела в деревянной комнате, где раздевается молодежь. В окошках видны река, перила, флажки, лодки. На реке вспыхивают весла. Они выходят из деревянной комнаты и идут по горячим доскам. Где-то играет оркестр. Он колеблет воздух. От колебаний сотрясается деревянное сооружение. С досок летят опилки. Ах, не лучший ли вид человеческой жизни – флаг, бегущий в синеве летнего неба, когда вдали играет военный оркестр!»
Он пришел домой и лег.
Он предался игре воображения.
Таких женщин убивают.
Париж! Париж! Он воображал страшную сцену. То, чего не было. Драму. Конец драмы. Развязку событий, – обязательный, на его взгляд, результат Катиной красоты.